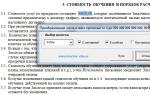Иоганн Вольфганг ГЁТЕ Жизнь Гёте как личность Философия. Поэзия и правда мысли. Философско-поэтическое мировоззрение Гёте Гении и злодеи. Иоганн Вольфганг Гёте. Видеофильм
Философия не достигнет своей цели, покуда результа ты рефлектирующей абстракции не примкнут к чистей шей духовности чувства. Я рассматриваю Вас, и всегда рассматривал Вас, как представителя этой духовности на современной достигнутой человечеством ступени развития. К Вам по праву обращается философия. Ваше чувство - пробный камень ее.
Фихте.
Из сопроводительного письма к посланному Гёте экземпляру «Наукоучения» Гёте в теме «философия» - явление бесспорное и вместе с тем парадоксальное. Как философ, он вне всякого сомнения, но, с другой стороны, мало что внушало ему столь сильную неприязнь, как отвле ченное мышление. «Для философии в собственном смысле, - говорит он, - у меня не было органа». - «Она подчас вредила мне, мешая мне продвигаться по присущему мне от природы пути». Биография Гёте дает в этом отношении любопытные сведения; не что вроде напряженной подозрительности чувствуется в нем всякий раз при соприкосновении с фило софами; я бы назвал эту ситуацию вооруженным нейтралитетом. В письме к Якоби от 23 февраля 1801 г. Гёте весьма деликатным образом намекает на водораздел: «В каждом адепте опыта... я допускаю своего рода опасливость по отношению к филосо фии, в особенности когда она проявляется так, как в настоящее время; но эта опасливость не должна вы рождаться в отвращение, а должна разрешаться в спокойную и осторожную склонность». Самому Гёте эта склонность удавалась не всегда; можно сказать, что только благодаря личным симпатиям к ряду современных ему философов он проявлял некоторую терпимость к их сочинениям. Но раздражение и до сада не упускают случая проговориться. «Эти госпо да, - пишет он о фихтеанцах, - постоянно переже вывают свой собственный вздор и суматошатся вокруг своего "я". Им это, может быть, по вкусу, но не нам, остальным». То же о Гегеле: «Я не хочу де тально вникать в философию Гегеля, хотя сам Гегель мне импонирует, - ворчит 78-летний старик. - Во всяком случае столько философии, сколько мне нужно до моей кончины, у меня еще есть в запасе; собственно говоря, я не нуждаюсь ни в какой философии». Даже Шеллинг, наименее отвлеченный из всех, наиболее вдохновенный и поэтичный, един ственная философская слабость Гёте («Я мечтаю, - писал ему Гёте, - о полном единении с Вами, кото рого надеюсь добиться изучением Ваших трудов»), не стал здесь исключением: «С Шеллингом я провел хороший вечер. Большая ясность при большой глубине всегда радует. Я бы чаще видался с ним, если бы не опасение повредить поэтическому вдохнове нию; а философия разрушает у меня поэзию». «Я никогда не могу оставаться в области чистого умоз рения, - тут же поясняет он, - а должен тотчас же подыскивать к каждому изложению наглядное представление, и поэтому сейчас же ускользаю в царство природы».
Отмеченная выше черта принадлежит у Гёте к числу наиболее своеобразных. Можно довольство ваться простой констатацией ее, но тогда придется говорить о философии самого Гёте в достаточно ту манном и невнятном контексте, ограничиваясь об щими положениями на фоне философствующей по эзии или поэтического философствования. Удобство такой позиции обеспечит максимум благополучия при минимуме реального постижения вопроса. Гё те не философствующий поэт или поэтизирующий философ; он отнюдь не принадлежит к тому сорту философов, место которых, по выражению Новали- са, « в госпитале для неудавшихся поэтов». Гёте - философ в самом прямом смысле слова и более того, в каком-то новом смысле. Для того чтобы понять это, следует не просто констатировать отмеченную выше его неприязнь к философии, а проследить ее исторический генезис, осмыслить корни ее. Она не субъективный каприз и не идиосинкразия, но симп том первостепенной значимости, свидетельству ющий о радикальной черте в судьбах самой фило софии. Я ставлю вопрос: как мог человек, всем необозримым существом своим простертый к зна нию, ежемгновенно испытующий мир в таком охва те, о котором и не смели мечтать современники, че ловек, рассекающий взором явления и магнетически влекущийся к истине, - « Н е sees at every p o r e , - ве ликолепно замечает о Гёте Эмерсон, - and has a certain gravitation towards truth »*, - как, говорю я, мог Гёте не иметь органа для философии в собственном смысле? Одно из двух: вина падает либо на него, либо... я хочу сказать, что в решении этой загадки нам придется усомниться либо в подлинности его пути, либо осмысливать ситуацию иначе. Прежде всего: дело идет не о философии как таковой, а о со временном Гёте господствующем типе ее. Если прав Фридрих Гундольф, полагая, что «Гёте мыслил не тол ь ко мозгом, но всем телом» (эту особенность Гун дольф остроумно связывает с греческим императи вом), то очевидно, что в грегес к ом воплощении перед Гёте не должна была стоять подобная проблема. Его неприязнь к философии коренится во врожденном отвращении ко всяческой отвлеченности; стало быть, именно отвлеченность философии послужила источником опасливости по отношению к ней. Мес то Гёте в истории западной философии, в этом смысле, хоть и место, но место весьма странное и необыч ное; во всяком случае, оно - место скрещения двух наиболее проблематических линий в развитии за падной мысли, и, как таковое, оно - т о г к а. В много численных пособиях по истории философии точка эта, как и подобает точке, не занимает сколько-ни будь ощутимого пространства; историки философии почтительно обходят Гёте молчанием либо двумя-тремя трафаретными упоминаниями; упрекать их в этом было бы тщетным занятием; с точки зрения систематики Гёте действительно остается вне круга их интересов (как-никак он ведь не говорил о фило софии, а делал ее).
- * Он видит каждой порой и его словно гравитационно влечет к истине.
Место Гёте приобретает почти ка тастрофическую значимость с точки зрения пробле матики. Здесь он становится, говоря словами Фихте, «пробным камнем » философии, и в «историях фило софии » , пишущихся как истории не систем, а про блем, имя его не должно уступать по значимости именам весьма прославленным. Один из существен ных ракурсов этой проблематики и предстоит нам вкратце обозреть.
Летом 1794 г. в Йене состоялось знакомство Гёте с Шиллером. Эта встреча, описанная Гёте в заметке «Счастливое событие», оказалась решающей в судь бах не только его философского самосознания, но и - символигески - в судьбах западной мысли. До этой встречи Гёте пребывал как бы в философском раю или, его же словами, « в философском первобыт ном состоянии», нисколько не смущаясь своим «ко стюмом Адама» в прогулках по саду мыслей. Шил леру, испытанному (или, точнее, полоненному в рассудке) кантианцу, суждено было сыграть роль искусителя.
«Мы дошли до его дома, разговор завлек меня к нему: тут я с увлечением изложил ему метаморфоз растений и немногими характеристичными штриха ми пером воссоздал перед его глазами символичес кое растение. Он слушал все это и смотрел с большим интересом, с несомненным пониманием; но когда я кончил, покачал головой и сказал: "Это не опыт, это идея". Я смутился, несколько раздосадо ванный, ибо пункт, разделявший нас, был самым точным образом обозначен этим. Снова вспомнилось утверждение из статьи "О грации и достоин стве", старый гнев собирался вскипеть; однако я сдержался и ответил: "Мне может быть только при ятно, что я имею идеи, не зная этого, и даже вижу их глазами". Шиллер... возразил на это как образован ный кантианец, и когда мой упрямый реализм дал не один повод для самых оживленных возражений, то пришлось много сражаться, а затем было объяв лено перемирие; ни один из нас не мог считать себя победителем, оба считали себя непобедимыми».
Для апоретигес к и пишущейся истории философии описанная сцена могла бы послужить, пожалуй, наиболее ярким симптомом кризиса, изнутри охва тившего западную философскую мысль. Ответ Шиллера: «Это не опыт, это идея» - донельзя исчерпы вающе формулирует итоги становления европейской философии. В лице Шиллера Гёте была противопо ставлена мощная традиция абстрактного интеллек туализма, достигшая предела в критике познания Канта. Не менее символична реакция Гёте. Уму, воспитанному на отмеченной традиции, ответ Гёте дол жен был показаться верхом наивности *; судьба оберегла Гёте от философской образованности; он и в философию вошел как любител ь и, сам того не ведая, коснулся болезненнейшего нерва ее. «Я вижу идеи» - очевидно, что в этих словах сосредоточена вся «святая простота» дорефлективного состояния души, не ведающей покуда всей критической сложности ситуации. Любопытно, что пафос возражений Шиллера мог бы свестись к простому совету: «По читайте Канта»; именно незнакомство с текстами Канта вменяли Гёте в вину многие поздние интер претаторы. Понятно раздражение Гёте: «Собствен но говоря, я не нуждаюсь ни в какой философии». Его максима: «У г ит ь ся не из книг, а из живого общения с природой и люд ь ми».
- * Впрочем, противоположного мнения придерживался В. Гумбольдт. «Мне всегда казалось в то счастливое вре мя, когда я жил вместе с Вами и Шиллером, - писал он Гёте, - что Вы ни на один волос (если Вы позволите мне так выразиться) не уступали ему как философская и мыслящая натура».
Встреча с Шиллером скре стила абстрактный интеллектуализм с живым личным опытом, и скрещение это оказалось роковым. Подумаем: значим ли шиллеровский критерий для всей философии? Приверженцам отвлеченного интеллектуализма всегда казалось и поныне кажет ся, что пути становления философии отмечены по степенным ростом от чувственно-конкретного к аб страктно-всеобщему; вся история философии рассматривается ими в призме собственных мерок, как если бы стремлением философов всегда было по догнать познание под прицел отвлеченной рефлек сии. Истолкованная с этой точки зрения, история философии оказывалась сведенной к тенденции прогресса рассудочного знания как единственной цели ее; не удивительно, что в таком освещении ста ло обычным делом в философских кругах говорить о наивности прежних концепций, скажем греческих, по сравнению с новыми и новейшими. Был наивен Пифагор, были наивны досократики; не свободны от наивностей Платон и Аристотель. Ситуация эта тре бует оговорки. Одно дело - понимать «наивность» в исконном этимологическом смысле слова (латин ское nati v us означает буквально: природный, врож денный, коренной, безыскусственный); в этом слу чае сказать кому-либо «вы наивны» значило бы сделать ему едва ли не комплимент. Но слова, как и книги, имеют свою судьбу: этимологический комплимент в призме современной семантики граничит почти с оскорблением (аналогично обстоит дело и с рядом других слов, как, например, «примитив ность » , означающем просто «первоначальность», или с таким этимологически безобидным и оценоч но вполне нейтральным словом, как «идиотизм »). В буквальном смысле греки, конечно же, наивны, больше того, принципиально наивны. Наивность - их эйдос, их «господствующая способность»; в ней концентрируется вся совокупность «плюсов» и «ми нусов» их мысли, блеск и нищета этой мысли, быть может, и будущие трагические изломы ее судеб. А между тем что значит «наивный» в устах совре менного философа? Плохо разыгранная деликат ность, просвечивающая явным презрением. Филосо фия Платона представлялась Канту м е г тате л ьн ъ ш догматизмом, а Эмпедокла в нашем веке почтенный Бертран Рассел назвал просто «шарлатаном». Рас судим объективно: если цель истории философии кульминируется в воззрениях Рассела, то отношение его к Эмпедоклу (не говоря уже о Шеллинге, кото рому в своей почти тысячестраничной «Истории за падной философии» он уделил всего пять строк, от лично совместив пренебрежительное отношение с просто невежеством) не только понятно, но и вполне правомерно. Но можно ведь с одинаковым успе хом утверждать обратное: философия в лице Канта и Рассела не достигла своей цели, а максимально удалилась от нее; но тогда характеристика Эмпедок ла становится для произнесшего ее бумерангом (ин тересно, скольких строк удостоится сам Рассел в бу дущих историях философии?). То, что рост отвлеченной рефлексии действительно имеет место в истории западной философии, не представляет ни какого сомнения; вопрос в том, к чему это привело; и может ли это считаться целью философского раз вития.
Такие вопросы стояли в душе Гёте при встрече с Шиллером. Свершилось некое чудо: в конце XVIII в. перед мощным заслоном абстрактного интеллектуализ м а, занявшего авторитарно-учительскую пози цию по отношению к древности, возникло непосред ственное олицетворение живого греческого опыта и потребовало отчета в сложившейся ситуации. От влеченным философам легко было справляться с текстами; на этот раз им пришлось иметь дело с лиг- ностъю, парадоксально избегнувшей таможенных запретов веков и контрабандно принесшей с собою нетронутый и неослабший опыт прошлого. Тогда отвлеченность нанесла первый удар; медиумом оказался Шиллер. Удар сокрушительный; вдумайтесь: возражение Шиллера забронировано мощью более чем тысячелетней традиции. В чем заключалась эта мощь? В замкнутом круге собственных воззрений и в отрицании всего, выпадающего за линию круга. В дневниках Фридриха Геббеля сохранился любо пытный набросок темы, предназначенной, вероятно, для драмы. Речь идет о воплотившемся в XIX в. Пла тоне, сносящем от школьного учителя побои за не верное объяснение платоновской философии. Это вовсе не анекдот; если представить себе воплощенного Платона участником наторповского семинара на тему «Учение Платона об идеях», то читателя, знакомого с этой неокантианской версией платоно- ведения, не удивит, что после первого же объясне ния высокоталантливый Наторп посоветовал бы Платону с большей основательностью изучить тек сты Платона. Мы не знаем, как бы среагировал на это сам Платон*. Но мы знаем, как среагировал на это его угеник. Гёте выдержал удар и в свою очередь нанес удар. «Это не опыт, это идея». Ответ Гёте: «Если это так, то я вижу идею».
Маленький проверочный эксперимент, вполне в духе современности. Позитивисты любят сводить философские проблемы к лингвистическим и обвиняют многих философов в злоупотреблении норма ми языка. Так вот: в этом злоупотреблении не смог бы упрекнуть Гёте ни один позитивист. Что мыслит новая философия, говоря об идее? Нечто в высшей степени абстрактное, более отвлеченное даже, чем понятие. Что же в буквальном смысле значит идея? Это то, гто видно; переведите ответ Гёте на гречес кий язык, и вы получите тавтологию, которая, впрочем, и в русском языке засвидетельствована аллите рацией слов «видеть идею». Как же случилось, что наиболее конкретному из слов суждено было стать наиболее абстрактным? Я постараюсь прояснить си туацию в кратком историческом экскурсе на тему «Идея, или увеличивающаяся близорукость философских воззрений».
- * Бесподобно реагирует на аналогичную ситуацию кавалер Глюк в одной фантазии Гофмана.
Можно начать с самых «наивных»: с досокра т и- ков. Отсутствие в их фрагментах понятия «идея» объяснимо не неведением таковой, но принципиальным неразличением идеи и опыта. При этом следует учесть: трудность понимания воззрений древних в гораздо большей степени связана с контекстом сохранившихся отрывков, нежели с самими отрывка ми. Трудно достигнуть ф илолог и геской имманентно сти в прочтении текстов; как правило, нам приходится не вычитывать из них адекватный им смысл, но вчитывать в них собственные стандарты понимания и судить затем о них по этим же стандар там. Но гораздо труднее пережить имманентный контекст, живую атмосферу слов. Аттестуя антич ную мысль баллом «наивности» (в презрительном смысле слова), мы бессознательно аттестуем тем же баллом собственное неумение адекватно воссоздать атмосферу той мысли. Я говорил о неразличении идеи и опыта у досократиков. Что я имею в виду? С современной точки зрения, отмеченной макси мальной оторванностью идеи от опыта, всякое их неразличение по праву квалифицируется как «наивность». Не так обстоит дело с точки зрения, имманентной описываемому периоду. Неразличение здесь не есть неспособность: оно изживается в факте такой слиянности с идеей, что мыслить идею вне опыта просто невозможно. Орган мышления досок- ратиков - не рассудок; идея у них потому неразли чима с опытом, что такое различение происходит впервые в рассудке и тол ь ко рассудку присуще. Рас судок не видит, он мыслит общее в конкретно данном материале. Оттого он не усматривает общего в единичном и присваивает это общее себе. Досокра- тическая мысль, насильственно перенесенная в плоскость рассудка, сперва обезоруживается и пос ле подвергается всем видам экзекуции со стороны исследователя, философским прародителем которо го следует считать печальной памяти Прокруста. Адекватное постижение ее возможно лишь в преде лах ее собственной сферы. Как, в самом деле, понять утверждение Фалеса о том, что «все полно богов, де монов и душ», если изъять его из присущего ему кон текста и вписать в совершенно иной, ну, скажем, гольбаховский (или расселовский) контекст? Какой удобной мишенью станет оно тогда для заряженных убийственным остроумием обойм абстрактно дума ющих голов! Досократическая мысль, образно гово ря, не стеснена пределами только черепной короб ки; субъективность мысли в нашем смысле является для грека совершенной бессмыслицей. Мысль здесь - странница, не имеющая постоянной пропис ки в голове; свободно и непринужденно блуждает она по миру, просвечивая сквозь вещи. Ее воспри нимает досократик в вещи как существо последней; идея и опыт неразличимы, потому что, глядя на вещь, досократический философ видит идею вещи. Вещ ь в современном смысле слова неведома ему.
Чувственное, поскольку оно пронизано идеей, уже не может мыслиться в привычном для нас смыс ле; взору греческого философа оно никогда не пред стает как нечто слепое (по Канту); наличие в нем идеи принципиально преображает его; оно есть сим вол. Отсюда своеобразие греческого философского лексикона, который, в свою очередь, остается недо ступным большинству позднейших исследователей. Так, стиль Гераклита Виндельбанд характеризует как недостаток и приписывает его «неспособности найти для мысли, стремящейся к абстракции, адек ватную форму». Любопытно спросить: откуда взял Виндельбанд, что эта мысль стремилась к абстрак ции? И какую адекватную форму мог бы предложить он вместо символа огня? Вот в наше время амери канский философ Боринг, не стремящийся к абстракции только по той причине, что кроме абстрак ции ничем иным и не обладает, предложил заменить выражение «дух времени» более «адекватной» фор мой, которая в его варианте звучит так, что, услы шав ее, содрогнулись бы боги Олимпа от смеха - «психосоциал ь ная матрица».
Но философ не содрогается от смеха; смех философа, как заметил Фуко, - «безмолвный смех». Безмолвно смеясь, философ предоставит здесь сло во (угадайте, кому!) Мефистофелю, прошу проще ния, психосоциальной антиматрице:
Исход единственный и лучший: Профессору смотрите в рот И повторяйте, что он врет. Спасительная голословность Избавит вас от всех невзгод, Поможет обойти неровность И в храм бесспорности введет.
Эмиль Бок метко назвал развитие человеческо го сознания «крестным ходом на Голгофу». Мысль, пронизывавшая некогда все существо человека, все больше сужалась и сжималась до рассудка. Досокра- тики в этом смысле открывают ход; мысль их еще эфирна и трепетна и потому избирает себе жилищем символы, а не понятия. Форма символа наиболее ей адекватна, и когда досократический философ гово рит о веществе, вещество это следует понимать не в объемно-весовых категориях, а символически, как идею, данную, однако, во всей конкретности мифически-телесной полноты. Философский гений гре ков параллелен и гармоничен гению греческого язы ка; я воспользуюсь прекрасными примерами, которые приводит А. Ф. Лосев в подтверждение кон кретности идей. Грек вполне мог бы сказать: «Идея земли содержит впадины» или «У бога Эроса гибкая идея»; выражения эти, искусственные и непривыч ные для нашего слуха, звучали бы для грека есте ственно и даже банально. Именно здесь следовало бы искать ключ к пониманию досократиков.
Методическое различение идеи и опыта начина ется с Платона. Если в досократической философии первонаъало зрится, как правило, во плоти, через символическое подобие физического вещества, то Платон углубляет проблему, внося в нее первые за чатки критицизма. Монолитной мысли досократи ков противопоставляет он дифференцированную мысль; с одной стороны, она все еще сращена с объектом, с другой стороны, оторвана от него и при надлежит себе. Впервые здесь мысль не только ста новится рефлексией, но и осознает себя в качестве таковой. Можно сказать: праксис платоновской мыс ли еще коренится в мистериальном прошлом, тогда как теоретигески она уже обращена к какому-то но вому, неведомому дотоле будущему. Эта расщеплен ность мысли, стояние ее на пороге между «еще» и «уже» является источником множества парадоксов, которые вот уже свыше двух тысячелетий продол жают смущать интерпретаторов. Один из этих пара доксов действительно заслуживает внимания: Пла тон известен в истории философии прежде всего своим учением об идеях, и однако более присталь ное знакомство с его текстами показывает, что ни какого угения об идеях у него, собственно говоря, нет. К этому филологически безукоризненному выводу пришел А. Ф. Лосев*. Есть отдельные наброски, фрагменты, фразы, в большинстве своем достаточ но двусмысленные и недоговоренные, так что упрек Виндельбанда, адресованный Гераклиту, был бы гораздо уместнее именно здесь; одной стороной своей мысли Платон действительно стремится к абстракции, пытаясь высвободить мысль из сращенности с натурой. Борьба мифа и логоса достигает в нем подлинно драматического пафоса; ряд диалогов блиста тельно изображает перипетии этой борьбы. Платон- логик, учитель Аристотеля, и Платон-мифотворец, наследник ясновидческой мудрости древних мистерий, Платон, высмеивающий мифы, и Платон, созидающий их, - воистину, сам он является наиболее жгучей проблемой своей философии, некой парадигмой всех собственных проблем. Подумайте: разве не логик в нем издевается над «доморощенной» мудро стью мифов (в «Федре»), и одновременно разве не мифотворец в нем отворачивается от несравненно го своего ученика, Аристотеля! Нескончаема цепь противоборств этих двойников, и в ней - третий, воистину скованный П латон (спустя столетия весь неоплатонизм ощутит себя Гераклом этого Проме тея). Т ретий Платон - не третий ли Фауст? - стис нутый нестерпимой антиномией «двух душ» своих, из которых одна безрассудочно изживает неразли чимость опыта и идеи, а другая рефлектирует и силится оторвать их друг от друга. Я оговорился: следовало бы сказать разлиг и т ь вместо оторват ь. Ибо логик Платон слишком зависит от ясновидца Платона, чтобы стремиться к отрыву там, где дозволи тельно лишь различение.
- * Ср.: «Все у Платона пронизано учением об идеях, а самого-то учения об идеях найти у Платона невозможно. Этот историко-философский парадокс до настояще го времени никем последовательно не осознан; и все излагатели Платона обязательно включают в свое из ложение иной раз даже огромную главу под названием "учение Платона об идеях"» (А. Ф. Лосев. История ан тичной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1969. С. 154).
Но, с другой стороны, ло гик Платон слишком страстно борется с ясновидцем в себе, чтобы решать проблему спокойно и осмотри тел ь но, как и подобает «другу идей». И вот в пылу борьбы логика часто заносит; ряд мест из диалогов дает основания к далеко идущим и извращенным выводам. Нужно почувствовать весь динамический накал ситуации; понимание Платона в прослежива нии генезиса мысли его, а не в поверхностно структурных процедурах анализа резул ь татов этой мыс ли. Генезис же таков, что за каждым словом в диалогах чувствуется прямо катастрофическая пре дыстория. Любопытен в этом отношении метамор фоз понимания Платона у одного из современных философов, по праву считающегося одним из луч ших знатоков греческого философа. Пауль Наторп, издавший в 1903 г. знаменитую книгу «Учение Пла тона об идеях», резюмировал свое толкование пре дельной логизацией мыслей Платона. Вывод На- торпа: всюду, где мы встречаемся в диалогах с метафорическим и мифическим способом изложе ния, следует говорить о неподлинном Платоне; под линный Платон - в логических своих тенденциях, и дело может идти лишь об очищении этих тенден ций до первоначального замысла их. В мои задачи не входит более подробная оценка этой интерпретации - выше я обмолвился уже упоминанием о На- торпе, - но очевидно, что в его книге рассмотрен лишь один из платоновских двойников, именно: ло гик. В 1921 г., выпуская в свет второе издание своей книги, Наторп снабдил его большим «Метакрити- ческим дополнением», резюмирующим на деле диа метрально противоположный взгляд на Платона. Теперь акцент падает на другого двойника: подлин ный Платон обнаруживается уже не в логических, а в мифо-метафизических тенденциях своих. Оба про чтения реальны, ибо двойственность всегда сопут ствует росту платоновской мысли. Специфика ее ге незиса такова, что если ставится чисто логическая цель, то в осуществление этой цели, как правило, вмешиваются мифические средства; Платон-мифо- творец преследует Платона-логика, как Эринии Оре ста, и не дает ему покоя. Только отсутствием покоя и могу я объяснить нередкие перегибы в изложении, сыгравшие столь роковую роль в изломах путей за падной философии. Эти перегибы сводятся, по су ществу, к нарушению баланса акцентировок. Следу ет различать, учит Платон, чувственное и идеальное. Первое преходяще, второе вечно суще. Первое лож но, второе единственно истинно. Первое есть сфера опыта, второе - сфера идей. Платон, подчеркнем это еще раз, не мог иметь в виду ничего иного, кро ме разлиъения, но темперамент его изложения таков, что в ряде мест явно чувствуется разрыв. Словно бы мифотворец вынуждает логика хватить через край; для мифотворца нет еще никакого различения: он зрит кентавра опыта и идеи, мысля опыт как саму идею, сращенную с веществом. Иначе говоря, мысль его почти всецело витает еще в чувственных объек тах; поэтому при первой же попытке определит ь ее место в голове он объявляет бойкот и начинает в буквальном смысле дурачить голову. Тогда голова, не желающая быть одураченной, прибегает к более резким мерам, чем этого требует сама проблема, и отлагается рядом двусмысленностей. Эти более рез кие меры логика Платона запечатлены текстуально в некоего рода отвращении от чувственного; силь ная тяга к высвобождению мысли подчас дискредитирует у него сферу опыта. Он говорит о ложности чувственного и не всегда при этом проясняет приро ду этой ложности, которая ложна только в том смыс ле, что в целях видимости отображает истинное че рез условное.
В истории западной мысли Платон остается, по жалуй, наиболее драматичной и загадочной фигурой, привлекающей к себе в силу двойственности своей самые противоположные концы. К нему обра щаются как строгие мыслители, так и вольные ху дожники, находя в нем опору и поддержку. Из-за широких ли плеч или широкого лба получил он про звище «Платон» (широкий), но прозвище это как нельзя лучше подходит к нему, распростертому на рубеже становления независимой мысли. Драма его в том, что в историю прокинулся не сам он, а тени его, расщепленные половинки, расщепившие европейскую мысль, половинки, из которых одна в ходе веков покровительствовала остаткам всяческих ма гий, тормозивших эволюцию сознания давно из жившими себя фокусами прошлого, а другая внесла роковой раскол в становление логической мысли усилиями многочисленных комментаторов, за вершивших борьбу за различение опыта и идеи пол нейшим разъединением их. Именно этот труп пла тонизма воцарился в веках мощным истуканом отвлеченной мысли, навсегда, казалось бы, засло нившим ландшафты живой мысли.
Образ Платона видится в прогляде тысячелетий застывшей скульптурной фигурой, изображающей борьбу. Напротив, образ его ученика Аристотеля весь в движении. Гёте прекрасно передал их разли чие в «Материалах для истории учения о цвете». Платон - созерцатель, гостящий в мире на некото рое время. Аристотель же стоит перед миром как де ятель, как зодчий. Не случайно назван он перипате тиком: мысль его не покоится в созерцательности, а выхожена, динамична, неустанна. Он - первый, кто осознал роковые возможности неверно понятого платоновского идеализма, и потому силится он вос становить баланс акцентацией опыта. Критика Пла тона у Аристотеля в этом смысле скорее эвристич- на, чем фактична; не в меньшей мере, чем Платон, признает он мир идей, но в большей степени, чем Платон, подчеркивает и значимость мира явлений. Чувственное для Платона - иллюзия и обман; для Аристотеля оно прежде всего - предмет исследова ния. Идея должна объяснять опыт, опыт должен приводить к идее - несомненно, что в этом отноше нии Аристотель стоит в большей близости к Гёте, чем Платон («Если бы теперь, в спокойные време на, я располагал юношескими силами, - признавал ся 78-летний Гёте Цельтеру, - то я бы полностью отдался греческому... Природа и Аристотель стали бы моей целью »). В Аристотеле, с одной стороны, полное преодоление рубежа, отделяющего мысль от мифа; с другой стороны, ему удалось осуществить то, что осталось открытым в платоновской философии; логика как дисциплина мысли предпосылается им ряду конкретных наук. Таким образом, в Аристоте ле мы видим первую попытку избежать роковых по следствий платонизма через усиленное обращение к миру опыта; но судьбам европейской философии угодно было исказить и эту попытку, оторвав «логи ку» от «топики» и культивируя ее как самоцель.
Примирить Платона с Аристотелем взялся нео платонизм. По грандиозности размаха и системати зации деталей Плотин даже превосходит Платона. Система Плотина - гигантское сооружение, поражающее несоответствием цели и средств. Иначе го воря, она - покушение с негодными средствами; це лью Плотина была рассудочная транскрипция зрячего сверхчувственного опыта, но эйдетик Пло тин настолько превышает Плотина-логика, что цель оказывается сорванной. Не окрепший еще рассудок силится здесь стать Атлантом мира идей и не выдер живает бремени. Язык Плотина доподлинно пере дает это бремя невыразимых узнаний; Плотина упрекали в схоластике, но упрек пуст: именно схо ластики, или упражнений для развития логических мускулов, больше всего недостает ему. Он темен, многословен, отрывочен, косноязычен - настоящая мука для переводчика! - светлый гнозис сущности не умещается в его философском словаре и разры вает этот словарь в лепет косноязычия либо вынуж дает автора искать пристанище в формах прошлого; торжественный жреческий язык перебивает тогда рассудочную невнятицу. Плотин, ищущий трет ь его Платона и обрекающий себя на участь первых двух, мог бы повторить вместе с поэтом эту извечную жа лобу:
Как беден наш язык! - Хочу и не могу. - Не передать того ни другу ни врагу, Что буйствует в груди прозрачною волною.
(А. Фет)
Дальнейшие судьбы неоплатонизма отчетливей выявляют срыв задания. В учениках Плотина исче зает Аристотель и вновь воцаряется двуликий Платон. Таков апофеоз Платона-логика в рассудочных конструкциях Прокла, подводящего итог греческой философской умозрительности; сухая рассудочность этого «схоласта эллинизма», пустой формализм его понятийной комбинаторики оставляет тягостное впечатление; такого упадка не знала цветущая греческая мысль. И таков апофеоз Платона-мифотвор-ца в упадочном магизме Ямвлиха, воскрешающего под мнимо понятийной формой остатки былых ве рований.
Но в то время, как линия Ямвлиха постепенно сходит на нет, линии Прокла суждено глубоко врас ти в будущее. Окрепший рассудок расширил свои права и уже теперь начал казаться единственным обладателем мысли. Проблема идей наново вспыхи вает в «вопроснике» Порфирия, на этот раз уже в чисто рассудочном оформлении. Над вопросами Порфирия бьется вся схоластика; тысячелетие уходит на разрешение проблемы идей: существуют ли они самостоятельно или в самих предметах? Итог схоластики зеркально отображает итог усилий Пло тина, но в инверсии цели и средств. Если Плотину недоставало средств, то схоластике - парадоксаль но сказать! - недостает цели. Плотин зрит еще идеи; идеи все еще продолжают быть для него тем, г то видно; слабость его в попытке осилить сверхчув ственный опыт чисто рассудочным путем. Слабость Плотина - силище схоластики, достигшей в овла дении рассудочной мыслью такой виртуозной тех ники, о которой и не мечтали более поздние логики. Но за виртуозностью здесь не видно цели; утеряна способность умного зрения, умозрения; схоласти ческий ум не зрит, а разыгрывает сложнейшие логи ческие экзерсисы на тему «веры». Утраченный опыт сверхчувственного заменен здесь верой. « Credo , ut intelligam » - «Верю, чтобы понимать» - в этом ло зунге Ансельма, за вычетом отдельных умов типа Скота Эриугены, Абеляра, шартрских учителей, ре зюмируется весь философский пафос схоластики. Идея, переставшая быть фактом живого опыта и препарированная в рассудке, лишь по инерции про должала называться идеей; теперь она была как раз не-идеей, или тем, что не видно; узурпированная рассудком, она стала логическим и только логичес ким понятием.
А опыт? Опыт был отдан только чувствам. От ныне под опытом понимается только чувственный опыт, словно мысль не может быть опытной и словно опыт мысли - не опыт. Роковой водораздел был окончательно проложен. Чувственное, оторванное от идеи, и идея, изъятая из мира конкретной эмпи рии, - европейской философии оставалось стоичес ки испытывать безрадостные возможности этой антиномии.
Возникла уникальная в своем роде ситуация. Философы продолжали, как ни в чем не бывало, рассуждать на темы извечных проблем, упуская из виду самое существенное. Проследите по порядку или произвольно весь круг вопросов европейской философии, так сказать, тематический план ее; вы найде те здесь самые диковинные крайности, от «Что ест ь сущее?» до «Скол ь ко гребцов находилос ь в лодке Улис са в такой-то песне Одиссеи?» - не найдете лишь одного вопроса: «Что есть мысл ь?» Впечатление та ково, что мысль принимается как нечто само собой разумеющееся. Между тем она изживается как бес сознательная власть; философ, претендующий на максимум сознательной ясности, бессознателен в самом существе своей претензии! Мысль опознает он в ставшем результате ее и наделяет тот результат атрибутом априорной формы. Мысли не ведает он; она для него - понятие; но понятие не есть мысль; по нятие относится к мысли так, как сорванный цветок к живому, и даже не просто к живому цветку, а ко всему росту его*. Парадоксально сказать: в « cogito , ergo sum », этом крике галльского петуха, оповеща ющем об утре новой философии, нет понимания са мой природы cogito ; рационализм, исповедующий свободную мысль, опирается в своих предпосылках не на мысль собственно, а на веру в мысль. Мысль, переставшая быть предметом опыта, становится предметом веры; мысли, как таковой, не знает ра ционализм, гордо противопоставляющий бого словской вере всесилие знания; знания? - восклик нет скептик, - да ведь это та же вера, только переодетая!
«Философствование молотом» начинается именно здесь. Молотобоец - Давид Юм, утонченнейший демон-искуситель выскочки-рассудка, возомнившего себя всесильным и целиком присвоившего себе мысль. Удары Юма обнажают всю нелепую подкладку этих притязаний; логические про цедуры, означенные индексом строгости и объективности, оказываются в анализах Юма при вычками и навыками, а знание разоблачается им как замаскированная вера.
- * «О мысль! тебе удел цветка!» (Е. Баратынский)
Цель Юма, негативно сформулированная им в броском лозунге «подорвать ав торитет разума», позитивно заостряется в тенденции утвердить авторитет опыта. Крайность и здесь вытесняется крайностью; альтернативное мышление вновь запутывает пути к истинному прочтению про блемы полярности. Ибо, противопоставляя автори тету рационализма авторитет эмпиризма, Юм и весь английский эмпиризм обрекают себя на не менее нелепое положение, чем поносимые ими рационали сты. Догматический рассудок заменяется здесь дог матическим опытом, и вместо фанатиков понятий на передний план выступают фанатики факта, столь же бессильные в своих попытках постичь сущность фактов, как и первые в тщетных усилиях выплести из понятий всю полноту действительности. Идея, вконец оторванная от опыта, и опыт, утративший зрячесть, максимально растягивают проблемное поле западной философии в антиномии рационализма и эмпиризма. Между картезианским « cog i to , ergo sum » и берклианским « esse est percipi » повисает вопрос, осознание которого оказывается имманентным судьбам философского знания, достигшего наконец совершеннолетия и вышедшего из-под опеки догм. Кант - первый глашатай этого совершеннолетия; именно ему суждено олицетворить зрелость запад ной философии в гениальном выдвижении задач «критицизма». Время авторитетов прошло; филосо фии, если она хочет оставаться не служанкой, а госпожой, предстоит выбор между догматическим поклонением идолам знания и критическим осознанием собственных потенций.
Что сделал Кант? Пробужденный Юмом от «дог матической дремоты», он понял, что в пробуждении этом кульминируется самопервейшая задача теории познания и что наиболее достоверным симптомом его может быть не что иное, как критика познания. Ущербность прежнего рационализма и эмпиризма заключается, по Канту, в желании строить на невы- веренном и наивно положенном фундаменте предпосылок. Критика познания сводится к решительно му устранению таких предпосылок и к уяснению собственно познавательных средств. То есть, преж де чем утверждать, что сущее познается в априорном познании или в чувственном опыте, надлежит про яснить как сферу понятий, так и сферу чувств. «Кри тика чистого разума» осуществляет последователь ный пересмотр всех познавательных способностей, и значимость ее в этом плане уникальна; казалось бы, именно ей назначено было подвести итоги ум ственных мытарств европейской души и вывести философию из тупика апоретики в очистительную зону самосознания.
«Коперниканский подвиг» Канта на деле привел к совершенно иным последствиям. Кант начал с ана лиза чувственности и попытался нейтрализовать на падки Юма через доскональную инвентаризацию категориальных синтезов; возможность опыта уста навливается им единственно через конститутивное участие синтетических априорных принципов. С другой стороны, «трансцендентальная аналитика» вскрывает сами эти принципы в дедукции чистых рассудочных понятий и объясняет мир естествознания путем организации чувственных данных рассу дочными формами. Ограниченность рассудка демонстрирует Кант, борясь с предшествующим рационализмом; рассудок оказывается у него воз можным лишь в обращении к чувственности; поня тия без созерцаний (=чувственность) пусты, чув ственность без понятий слепа; знание сводится к рассудочному синтезу чувственности и только чув ственности. Образно говоря, в трехэтажной конст рукции критики познания понятиям отведен сред ний этаж при условии, что, если они желают быть знанием, а не химерой, им следует иметь дело толь ко с нижним этажом, или областью чувственно дан ного; всякая попытка приобщения к верхнему, тре тьему этажу, или сфере разума, где обитают идеи, является злейшим заблуждением, провоцируемым так называемой «трансцендентальной иллюзией » , и приводит к пустому диалектическому престидижи- таторству и шарлатанству. При этом следует учесть: все три этажа, по Канту, разнородны и строго раз граничены; в качестве коммутатора, связующего первые два этажа и делающего возможным позна вательный акт как таковой, Кант предлагает темное и исполненное призрачности учение о схематизме понятий; схема позволяет понятию опуститься к нижележащему материалу и организовать его сообраз но своей структуре; так обстоит дело с понятием, об ращенным вниз. Обращение вверх, к сфере разума, понятию запрещено; здесь натыкается оно на разде лительную грань, выступающую у Канта в форме так называемого предельного, или отрицательно мысли мого, понятия, «стража порога», закрывающего до ступ в сверхчувственное. Опыт, или знание, ограни чен, таким образом, только мышлением вниз, внеопытное применение понятий, или мышление вверх, разоблачает Кант как софистику и ложь. Идея оказывается не просто оторванной от опыта, но и опыту недоступной. Ее отдает Кант вере; идею знать нельзя, в идею можно (и должно) верить.
Вывод критики познания: мысль прикреплена к чувственности, и опыт есть чувственный опыт; мысль, в о лящая мыслить сверхчувственное, обрече на на иллюзию и грезы. Таким мечтательным дог матиком оказывается для Канта, к примеру сказать, Платон. «Критика чистого разума » , провозгласив шая самосознание единственной целью философии, добилась своей цели путем жесткого ограничения познавательных возможностей и упразднения гнози- са в таких масштабах, каких еще не ведала вся европейская скептическая ветвь. В Канте, враге скепти цизма, скепсис празднует, по существу, великий по луденный час триумфа и господства, ибо то, что не удалось свершить никому из пересмешников мысли, в полной мере удалось этому скромному и трудолюбивому профессору философии: не знаем и не будем знать мира идей. Чтобы знать, надо мыслить вниз, сферу чувственно данного материала. Но будет ли и это знанием - вот в чем вопрос?
Прежде чем перейти к разбору этого вопроса, проведем небольшой эксперимент. Ведь если, по ут верждению Канта, познание начинается с опыта, то невозможно познать самого Канта, не имея опыта о нем. Рассуждения о Канте, скажу я в духе кантовс- кой теории, не основывающиеся на опытных дан ных о Канте, химеричны и пусты. Такой химерой яв ляется, в частности, тенденция видеть в Канте великого освободителя мысли. Проверим эту тен денцию на опыте; эксперимент очень прост; он пред ложен Христианом Моргенштерном. Попробуйте, стоя и опустив голову, мыслить вертикально в зем лю к ногам. Через короткий промежуток времени возникает странное ощущение тупости и тупика; фантазия в буквальном смысле слова задыхается, словно ее схватили за горло костяной рукой.
Кант кастрировал мысль. Что есть мысль у Кан та? Категориальный синтез, или, говоря по существу, наклейка на чувственном опыте, о котором можно судить лишь по наклейке и никак не по реально содержащемуся в нем. Реальность, данная в чувствах, штампуется категорией «реальности»; мир есте ствознания оказывается инвентарем разнообразных штампов, по которым следует опознавать явления. Кант наложил запрет на сущность. Гвоздями рассуд ка заколотил он мысль в чувственность, запретив ей мыслить сверхчувственное, ну, хотя бы самое себя, т. е. различать в себе самой материал и форму по знания. Требования собственного критицизма нарушены Кантом, ибо мысль остается предпосылкой в его системе. Мысль критически не вскрыта Кантом; он принимает ее как данность и, ставя вопрос о возможности ее априорности, избегает вопроса о том, априорна ли она * .
Разъятие идеи и опыта и объявление непознава емости мира идей роковым образом привело Канта к непознаваемости и эмпирического мира. Агности цизм не может быть половинчатым; он или есть, или его нет, но если он есть, то он есть всё. Еще до сопри косновения с рассудочными формами чувственность была запечатана Кантом в формах времени и про странства; Кант не отрицает содержательности мира явлений, он попросту игнорирует ее как нечто недостойное наугного познания и познанию недоступное (между «недостойностью» и «недоступностью» лю бопытная причинно-следственная связь). Но отказ от гнозиса мира идей равносилен отказу и от мира опыта. Мир опыта загоняется в учебники естество знания и идентифицируется с терминами, как будто, произнося слова «причинность», «качество», «сила», «время», исследователь в силу самой фоне тики произнесения их понимает реальную суть происходящего. Гёте и здесь находит точную формули ровку: «Кто остерегается идей, теряет в конце концов и понятие».
Что бы подумал Кант о Гёте? Фактически он обошел его молчанием («Кант, - говорит Гёте, - ни когда мною не интересовался»), но стычка все-таки имела место, в упомянутой встрече Гёте с Шиллером. Я ставлю вопрос: какова значимость Гёте-естество испытателя с точки зрения философии Канта? Воп рос сулит самые неожиданные последствия; поставь его Шиллер перед собой, ему пришлось бы выбирать между терминологическим аппаратом своих «Писем об эстетическом воспитании» и живой непосред ственной натурой их.
- * Более подробно об этом говорю я в книге «Проблема символа в современной философии». Ереван, 1980.
Теория познания Канта может быть сведена к вопросу: «Как возможен Н ь ютон?» Она и ставит этот вопрос в общей безличной форме возможности математического естествознания. Ньютон - лишь персо нификация кантовской проблемы; Кант исходит из факта Ньютона и силится дать логическое обоснова ние этого факта. Его ответ: Ньютон как научно зна чимое суждение возможен лишь при условии воз можности Ньютона как опыта, а возможность последнего обусловлена значимостью первого. То есть законы физики невозможны без физического опыта, но и физический опыт существует лишь по стольку, поскольку его предваряет закон.
Теперь можно было бы испытать возможности самого Канта. Делается это просто, через постанов ку вопроса, которого Кант избежал: «Как возможен Гёте?» Речь идет не о Гёте-художнике, а о Гёте-уче ном, создателе органологии. Возникает жуткая в сво ей комичности ситуация: если иметь в виду, что вся органика Гёте покоится на «созерцающей способнос ти суждения» (выражение Гёте), и помнить при этом, что таковую Кант отрицал, не признавая за суждением никаких интуитивных способностей, то единственным ответом на поставленный вопрос дол жно было быть утверждение невозможности Гёте. Гёте, по Канту, невозможен, ибо мышление не видит, а созерцание не мыслит, между тем как именно на умозрении и зиждется весь феномен Гёте, на этот раз уже не только органолога, но и г еловека. По-види мому, абсурд ситуации, мелькавшей в подсознании Канта, и вынудил его к оговорке § 77 «Критики способности суждения»; оговорка, воистину исполнен ная драматизма: Кант - Дон-Кихот навыворот, променявший Дульсинею-Метафизику на Альдон- су-Чувственность, - единственный раз вспоминает здесь о своей Прекрасной Даме («Die Metaphysik, in welche ich das Schicksal habe verliebt zu sein »). Текст Канта гласит: «Наш рассудок имеет то свойство, что в своем познании, например, причины продукта он должен идти от аналити г ески общего (от понятий) к особенному (к данному эмпирическому созерцанию); но при этом он ничего не определяет в отно шении многообразия особенного, а должен ожидать этого определения для способности суждения от подведения эмпирического созерцания... под поня тие». Комментарий к отрывку в свете темы Гёте: если дан Гёте как факт, то кантианская мысль идет к нему от понятия о Гёте; при этом факт подводится под понятие (априорное, до и без Гёте данное, но требующее факта, дабы не остаться пустым). Факт Нью тона полностью уместился у Канта в понятие о Нью тоне; с Гёте же случилось нечто непредвиденное: феномен Гёте оказался настолько богаче рассудоч ного понятия о Гёте, что затопил его и сделал его невозможным. Но если невозможно понятие, то ему не может соответствовать никакое явление. Вывод: Гёте - иллюзия, вымышленная неким духовидцем (может быть, Сведенборгом?). Кант, однако, про должает; продолжение - оговорка: «Но мы можем мыслить себе и такой рассудок, который, поскольку он не дискурсивен подобно нашему, а интуитивен, идет от син т етигески общего (созерцания целого, как такового) к особенному, т. е. от целого к частям... Здесь вовсе нет необходимости доказывать, что та кой intellectus archetypus возможен; мы только ут верждаем, что сопоставление нашего дискурсивно го, нуждающегося в образах рассудка (intellectus ectypus) со случайностью такого свойства ведет нас к этой идее (некоего intellectus archetypus), не содержащей в себе никакого противоречия». Расшифров ка текста: Гёте все-таки мыслим как не наш; доказывать его возможность нет нужды; он - случайность, выпадающая из правила, и, как случайность, не со держит в себе противоречия. Вывод: ум Канта (« наш» } \) дискурсивен; интуитивный ум Гёте мож но лишь теоретически мыслить, но следует при этом помнить, что из мыслимости чего-либо не вытекает его бытие; если же так, то значимость Гёте в системе Канта равновелика той сотне мнимых талеров, в которые ему обошлась критика онтологического аргу мента. Самое большее, что остается Гёте в критике познания, это быть прагматически полезной фикцией «как если бы». Мы живем в мире Ньютона, огра ниченные весом, объемом, массой и непреложно па дающими яблоками; но, увы, мир наш не свободен от случайностей, и потому приходится идти на ого ворки и рассматривать этот мир так, как если бы в нем был мыслим и Гёте.
Я принципиально заостряю проблему и довожу ее до крайности («нарастание »!). Можно, конечно, ограничиться общими представлениями и всячески сближать обоих мыслителей с помощью априорного понятия и подведенного под него искусного мон тажа цитат. Гёте не вступал в прямую полемику с Кантом; в его суждениях о Канте, порою весьма по чтительных, проскальзывает то и дело сдержанная неприязнь, впрочем настолько замаскированная, что для усмотрения ее потребовалось бы особое вживание в атмосферу текстов. Можно представить себе, как бы поступил в этом случае, скажем, Ниц ше, не церемонящийся с противниками и разящий их наотмашь. Для Ницше Кант - просто «идиот» («Kant wurde Idiot »); безоговорочность этой харак теристики тем не менее сильно пострадала от катас трофического срыва автора ее, и кантианцам не представляло труда выходить из положения столь же безоговорочным указанием на судьбу самого Ницше. Но в одном эта характеристика сыграла явно положительную роль: она навсегда избавила даль нейших комментаторов от фокусов сближения Кан та с Ницше. Случай Гёте оказался иным; доведись ему пару раз помахать дубинкой в высказываниях о кёнигсбергском философе (как это сделал он с Нью тоном), вопрос был бы исчерпан.
Но ударом Гёте по Канту и всей оцепеневшей в нем философской традиции оказался не личный вы пад, а позитив собственного дела. В лице Канта за падная философия, ставшая наконец отрицанием реал ь ной мысли, подошла к своему концу. Историки философии все же бессознательно правы, отказывая Гёте в месте в пределах этой философии. Там ему действительно нет места; с радостью бежит он вся кий раз при контакте с философией обратно к природе; здесь его подлинное место, а не в учебниках. Но судьба сподобила его стать очистителем; годами упорно трудится он над шлифовкой в себе гистого опыта, чьи сверкающие грани ослепляют уже совре менников во всех сферах: науки, искусства, жизни. Место Гёте в истории западной философии - воис тину парадокс, читаемый навыворот; мы видели уже, что в крайних выводах этой философии Гёте невозможен, и все-таки он ест ь, самим фактом свое го существования посрамляющий логические вы верты ослепшего ума, настолько ослепшего, что при своившего себе безответственное право писать «письма слепых в назидание зрячим». Но если есть он, то невозможной оказывается она, и в этом смыс ле его слова о себе как делающем «карьеру в невоз можном» воспринимаются уже не как метафора, а как факт. Парадокс темы впервые осознан Фихте, философом. « К Вам, - пишет он Гёте, - обращается философия». Это значит: если Вам нет места в ней, то да будет ей место в Вас. Или она вообще лишится места... «Ваше гувство, - продолжает Фихте, - пробный камен ь ее». Это значит: сосредоточенная ис ключительно во лбу («рефлектирующая абстрак ция»), она нашла в нем воистину лобное место. Лоб оторвал идею от опыта и остался без идеи и без опы та. Вместо идеи в нем воцарился призрак отвлечен ности, вместо опыта - чувственность, зашитая в рогожу априорных форм. И стала философия «гулким эхом от медного, в себе пустого лба» (Э. Р. Атаян).
Но лобное место и есть Голгофа мысли. История философии, как «крестный ход на Голгофу», живо писует все страсти мысли вплоть до креста и смер ти: тут и заушение, и бичевание, и облачение в багряницу, и распятие, и положение во гроб. Но тут же и третий ден ь: мистерия Воскресения. Система Канта вся в безысходности первых двух дней. Место Гёте в истории западной философии начинается с третьего д ня.
(Лекция, прочитанная в 1899 году в пользу фонда для построения
страссбургского памятника молодому Гёте)
Я хочу говорить о «вечно юном Гёте», о человеке, который в продолжение долгой своей жизни сохранил и не перестал творчески проявлять могущественное своеобразие своей личности, – о поэте, который вдохнул эту свою вечную юность светлым образам, в которых он живет и вечно будет жить с нами.
Несколько поколений уже ушли вслед за ним в могилу, и за все это время понимание его значения для нашей духовной жизни непрерывно возрастало, – быть может, не в ходячих взглядах широких слоев, которые легко отдаются течениям дня, но зато тем более в суждении людей, умевших, среди суеты изменчивых интересов, сохранить в себе восприимчивость к тому, что имеет вечную ценность. Для таких людей Гёте становился все более великим.
Кто, покидая Рим, направляется в Кампанью, в сторону гор, тот замечает, как постепенно все более сливаются и исчезают из виду стены и башни, куполы и шпили; и когда наконец вечный город кажется одной сплошной массой, тогда над ним властно возносится единый могучий купол Св. Петра. То же впечатление мы получаем по мере удаления во времени от Гёте. Чем далее мы уходим от той величайшей поры истории немецкой культуры, когда на пороге XVIII и XIX веков германский народ духовно воссоздал свою потерянную национальность, тем более для нашего ретроспективного взгляда с несравнимой мощью возносится над этой эпохой образ Гёте – мир для себя, объемлющий все и над всем возвышающийся. Эта гигантская фигура не укладывается в рамки какого-либо специального исследования, какой-либо отдельной научной дисциплины. Гёте принадлежит не только литературно-исторической мысли, он принадлежит всякому, кто сумел вдуматься в него и для кого его поэзия стала жизненной необходимостью; его труды приходится постоянно сызнова брать в руки, чтобы по изменившемуся, более зрелому их пониманию судить о своем собственном духовном росте. Но именно поэтому, благодаря такой широте своей натуры и своего творчества, Гёте принадлежит общей духовной истории.
Отсюда я беру право, следуя любезному приглашению, беседовать с вами сегодня о том, что означает Гёте для философии. Это, быть может, было неожиданным для многих из вас, и вы задались вопросом: есть ли у Гёте какая-нибудь философия? Он, этот гений конкретности и образности, для характеристики которого создан термин «предметное мышление», не давал ли он достаточно часто и ясно понять свое отвращение к абстрактному логическому характеру философии? Не борется ли он, великое дитя, всеми силами своей натуры против рефлектированности, против размышления о самом себе?
«Целый день брожу я
По лесам и полям
И насвистываю свою песенку»
Звучит ли это философией? Вспомним о времени, когда он ближе всего стоял к философии, о его отношении к Шиллеру, об их переписке – о том ее месте, где они сообща стараются выяснить «отношение их натур» и где Шиллер пользуется для этого понятиями Кантовой эстетики. Для Шиллера такая рефлексия естественна; она вытекает из самой его природы, он нуждается в ней, чтобы стать тем, что он есть; окунувшись, в философию Канта, он из туманной юности перешел к ясной зрелости. Будучи до того бурным талантом, он с помощью Канта стал великим поэтом. Для Гёте, наоборот, эта рефлексия есть нечто чуждое. Он отдается ей с усилием, больше в угоду своему новому другу, чем ради себя самого. Он, с его гармоническим складом и развитием, всегда был самим собой, и ему не нужно еще узнавать из философии, кто он такой. Наоборот, он чувствует к ней ту антипатию, которую обыкновенно питает великий художник к эстетике, научный гений – к логике, великий государственный человек – к политической теории:
«Суха теория, мой друг,
А древо жизни пышно расцветает».
И тем не менее Гёте принадлежит философии и ее истории. Прежде всего и главным образом тем, что он был. Он был проблемой, великой реальностью, которую нужно было понять, постигнуть, формулировать. Немецкая философия поставила себе в ту пору смелую задачу найти «систему разума», т.е. целесообразную связь всех отраслей жизненной деятельности культурного человека: для нее поэтому из реальности поэтического гения, который она видела и почитала в лице Гёте, выросла величайшая задача выразить в своих понятиях его природу и творчество и тем самым природу искусства, включить ее в свою систему и проформулировать ее. С тех пор как Шиллер положил этому начало, все философы трудились над этой задачей – Фихте и Шлегель, Шеллинг и Гегель, Шопенгауэр и Лотце.
Но не о том хочу я говорить: Гёте важен для философии не только тем, что он был, но и тем, что он творил. Правда, он не делал это в цеховой форме логической работы или методического исследования: он чуждался научной философии еще и потому, что она упрямо вырабатывала свой специальный язык. Однако, как было возможно, чтобы человек с широтой и глубиной его натуры, человек, которому ничто человеческое не было чуждо, который вступил в деятельное соприкосновение со всеми искусствами и науками, со всеми сферами жизни, – как было возможно, чтобы он не раздумывал, не говорил и не писал о тех величайших вопросах человеческой жизни, о тех последних загадках бытия, которыми занимается философия? Пусть он и не хотел ничего знать о науке, которая стремится разрешить эти вопросы в своих понятиях, – он не нуждался в ней; ему достаточно было непосредственного, естественного созерцания, его личной метафизики, его «philosophic irresponsable». Это его жизнепонимание и миросозерцание, как и указанное его историческое влияние на немецкую философию, вытекало из его личности. Поэтому он, подобно всем великим историческим личностям, в жизни и творчестве которых своеобразно отражаются мир и люди, принадлежит к живым источникам, из которых должна черпать философия.
Если я хочу говорить об этом жизнепонимании и миросозерцании Гёте , то я, конечно, не могу рассчитывать, хотя бы до известной степени справиться с этой темой в пределах предоставленного мне короткого времени. В почти необозримом богатстве его трудов, его коллекций и заметок, его писем и разговоров накоплен колоссальный материал для этого; в них содержатся замечания, в которых он высказывался о проблемах всех философских дисциплин, о теории познания и этике. о правоведении и эстетике, о философии религии и метафизике. Не опасайтесь, что я выложу здесь перед вами этот почти необозримый материал; я хочу лишь выбрать из него то, что кажется мне целесообразным для моей задачи,– я хочу лишь с возможно большие сторон осветить образ человека, которому мы собираемся воздвигнуть памятник.
Исходной точкой этого выбора позвольте мне взять проблему, руководясь которой мы можем рассчитывать до известной степени приблизиться к истинному существу нашего поэта. С первого взгляда всем ясно, что в его лице мы имеем дело с могучей натурой, с неподражаемой индивидуальностью, со своеобразной реальностью, с самостоятельным существом, замкнутым и утвержденным в себе самом; с другой стороны, мы видим, что эта индивидуальность отдается универсальной деятельности, тесно соприкасается со всей духовной вселенной; она живет и творит в целом, она расширяется до пределов бесконечного. И мы задаемся вопросом: что думал этот человек об отношении единичного к целому, о положении человека во вселенной – о старой загадке, насколько глубоко в последней основе вещей заложены корни индивидуальности? Мы видим, что каждое отдельное существо вытекает из жизни целого и снова в нее возвращается; и все же каждый из нас чувствует себя как особую, в себе определенную реальность, превосходящую это ее мимолетное проявление. Что означает, спрашиваем мы, отдельный человек во вселенной,– какое значение имеет личность для целого? Что думал об этом Гёте? В великолепной рапсодии «Природа» («Natur»), которую Гёте позднее сам датировал 1780 годом, он говорит о природе: «Она, по-видимому, все устроила для индивидуальности и нисколько не интересуется индивидами». Как наметилась в нем эта загадка – и как она разрешилась?
Эта старинная проблема была ему достаточно близка. Молодой Гёте духовно и литературно развивался в эпоху, которая более чем какая-либо иная жила в убеждении:
«Высшее счастье для детей земли есть лишь личность».
Это была эпоха «Бури и натиска» («Sturm und Drang»), эпоха гениев, когда индивидуальность со стихийной силой восстала против ига правил и формул и, время непосредственности, «естественности» в духе Руссо, время самодержавия гения, время исповедей, дневников и писем. Тогда признавался лишь тот, кто был «кем-нибудь», «натурой», «парнем». «Ты таков!» – воскликнул Лафатер, выскакивая из коляски и обнимая Гёте, которого он никогда до этого не видал. То было время, когда молодой поэт хотел вместе с «зятем Кроносом» блуждать по всем высотам и глубинам жизни и еще, упоенный золотым светом, при трубных звуках войти в Оркус, так чтобы «могучие внизу поднялись со своих мест», – время, когда титан Прометей выливал свою бушующую страсть в свободной лирике в стиле Пиндара и гордо восставал против всех сил земли и неба:
Сокрой, о Зевс,
Ты небеса свои
Парами туч
И тешься, как мальчишка,
Что обивает у волчца головки,
Круши дубы и выси гор!
Мою ты землю
Не пошатнешь,
И хижину мою;
Не ты ее построил,
И мой очаг,
Которого огонь
Тебе завиден.
Иль мужа из меня сковало
Не время всемогущее, владыка
И мой и ваш?
Взгляни сюда, Юпитер,
На мир мой, он живет,
По своему я образу их создал,
Род равный мне,
Чтобы страдать и плакать
Иль ликовать и наслаждаться
И на тебя не обращать вниманья.
Как я!
Но с подобным индивидуализмом, заложенным в темпераменте и питаемым окружающей средой, у Гёте сочеталось глубокое и могущественное обратное течение – это его религиозное чувство. Его нельзя понять, если упустить из виду этот существенный момент его характера. То, в чем Шлейермахер видел основу всякой религиозности, – благочестивое чувство, сознание своей связи с вечным, бесконечным и непознаваемым, своей замкнутости в нем, – это настроение проявляется в Гёте с редкой силой и непосредственностью. Когда мы читаем в «Мариенбадской элегии»:
«В нашей груди волнуется стремление из благодарности добровольно отдаться высшему, чистому, неизвестному, разгадывая тем для себя вечно безыменное, – мы называем это благочестием».
– то это звучит почти как поэтическая парафраза того, что великий теолог признал сущностью всякой религии; но слова эти вытекают непосредственно из глубины души поэта. Еще мальчиком в своей мансарде он придумал для себя одного и отправлял тихий культ Бога-природы. Уже тогда он хотел «тихо почитать неисповедимое». В здоровом патрицианском доме, которым руководила его мать, несомненно, не было места для скороспелого свободомыслия, но не было и узкого и боязливого правоверия, которое, вообще, если и не вполне отсутствует в духовном облике XVIII века, то все же стоит в нем на заднем плане. Именно указанная индивидуалистическая черта характера Гёте объясняет, почему Гёте всегда восставал против всякого традиционного ограничения и исторического опосредствования отношения между Богом и человеком. Это привело его к мистике, и в ней он нашел и сохранил связь с тем пиетистическим направлением, которое, как слабое эхо мистического движения, звучало в веке Просвещения. Известно, что в своей личной жизни он встретился с этим направлением в лице госпожи фон Клеттенберг; известно также то глубокое сочувствующее понимание этой утонченной религиозности, которое он проявил в «Исповеди прекрасной души». Эта «исповедь» образует существенный момент в построении «Вильгельма Мейстера», несмотря на то, что Шиллер – что весьма характерно – никак не мог примириться с этим.
Характер истинно великой личности проявляется, между прочим, в том, что она яснее и отчетливее других сознает «границы человечества». Поэтому душа Гёте полна благоговением перед тайнами, окружающими нас всех, перед темными силами, объемлющими всю человеческую жизнь, – тем благоговением, которое он изображает как нравственную основу всякого воспитания, благоговением перед тем, что над нами, перед тем, что под нами, перед тем, что около нас. Он находит этот элемент демонического в непостижимой общей жизни природы, в том макрокосме, загадочный вид которого восхищает и чарует тоскующую душу его Фауста; но точно так же и в великих силах, парящих в истории. «Всякое творчество высшего порядка, всякий значительный замысел, всякая великая мысль, приносящая плоды и не пропадающая бесследно, не подчинены ничьей власти и стоят выше всякой земной силы; человек должен считать все это нежданными дарами, проявлениями Божества, которые он должен принимать и почитать с радостной благодарностью. Все это родственно той демонической силе, которая по своему произволу распоряжается человеком... В подобных случаях на человека часто надо смотреть как на орудие высшего промысла». И по его мнению, это относится именно к великим личностям; он находит этот высший элемент в Рафаэле, в Моцарте, в Шекспире, в Наполеоне. С другой стороны, Гёте говорит как-то о неудавшемся народном движении: «В нем не было Бога».
Благочестие Гёте состоит в углублении в эту всевластную силу, в слиянии души с божественной гармонией бесконечной мировой жизни. В этом чувстве нет ничего насильственного, ничего тягостного и боязливого, ничего вымученного; это слияние человека с Богом есть полная здоровая жизнь, естественное обнаружение души и радостная чистота:
«Единичная личность охотно исчезнет, чтобы найти себя в бесконечном: в этом конец всякому недовольству. Мы испытываем наслаждение, отдаваясь строгому долгу и отрешаясь от пылких желаний, дикой воли и притязательных требований».
Таким образом, в созерцании Бога-природы Гёте ищет успокоения от страстей, избавления от противоречий земной жизни и воли. «Что лучшее может человек испытать в жизни, чем откровение Бога-природы?»
В этом лежало личное сродство, которое издавна и постоянно влекло поэта к Спинозе. В нем он находил в грандиозной и простой форме нравственный идеал самоосвобождения через посредство познания. Лишь тот может стать выше своей страсти, учит философ, кто понял ее, кто постиг необходимость, с которой вся человеческая жизнь и деятельность вытекает из божественной первоосновы. Страдания и горести жизни теряют свое жало для мыслителя, который рассматривает их так, как будто имеет дело с линиями, плоскостями и телами, и который хочет не плакать, не смеяться, а понимать. Это «безграничное бескорыстие», это бесстрастие Спинозы изумляло Гёте; он наслаждался в Спинозе чистотой и высотой миропонимания, воздерживающегося от оценки, благостью настроения, которое в созерцании целого высоко возносится над мерками, применяемыми к частным областям жизни. Tout I сomprendre c"est tout pardonner (Все понять – значит все простить (фр)).
Но Гёте хорошо знал, что это «по ту сторону добра и зла» применимо только к познающей и объясняющей науке и к созерцающему и творящему искусству, но никак не к волевой и действенной жизни. Здесь это кроткое добродушие наблюдения превращается в буйную дикость или в ничем не сдерживаемый эгоизм. «Все спинозистское в поэтическом творчестве, – заметил однажды Гёте, – превращается в рефлексии, в макиавеллизм». На такие вопросы направил бы поэт разговор Спинозы с Вечным Жидом, если бы это произведение было докончено. С его взглядами на эти проблемы мы встречаемся, в форме поэтических признаний, в «Wahlverwandschaften». В этом произведении он с тонким и неустрашимым анализом изобразил естественную необходимость возникновения и развития страсти – но вместе с тем энергично и строго подчеркнул сознание ответственности, которое сохраняет всю свою силу наряду с этой естественной необходимостью. «Wahlverwandschaften» в известном смысле есть поэтическое изложение глубокомысленного учения Канта об «эмпирическом» и «интеллигибельном» характере.
Но ту свободу, которую Спиноза нашел в мышлении, Гёте обрел и пережил в своей поэзии. Он возвышался над своим собственным состоянием, созерцая и художественно воспроизводя его. Он видел божественную силу поэзии в том, что его собственная жизнь, без усилий, без поисков и желаний с его стороны, превращалась для него в картину и тем отрешалась от него самого. Его поэтическое творчество было самоосвобождением через посредство самовоспроизведения . Философ преодолевает страсть тем, что постигает ее, художник – тем, что ее изображает. Так отрешил от себя Гёте части своей собственной жизни и природы: вецларские заблуждения в «Вертере», сезенгеймское прегрешение – в трагическом эпизоде с Гретхен в «Фаусте», мелкие стороны веймарской придворной жизни – в «Тассо». На его собственных заблуждениях и грехах подтвердились его прекрасные слова:
Заблудших детей огневыми руками
Благие возносят к чертогам своим.
В этом состоит загадка гётевского «творчества по случаю»; его собственная жизнь непроизвольно выливалась у него в художественную форму. Он ничего не добивается своей поэзией: он не хочет, он должен творить; песнь поется в нем. Но именно потому созданные им образы жизненны; они живут своей собственной плотью и кровью, независимо от творца, как дети, вышедшие из утробы матери. Благодаря этому они обладают высшей, эстетической реальностью; историческое в них становится простой формой. Они понятны сами собой: нужно ли нам знать Гёте, чтобы наслаждаться Ифигенией? К этим образам, которые он родил из себя и в которые он вдохнул высшую реальность, принадлежит в известном смысле и тот «молодой Гёте», которого он создал в своей «Поэзии и правде» («Dichtung und Wahrheit») и поэтическая реальность которого делает смешным всякий вопрос о его исторической достоверности.
Излагая в этом описании своей личности (в 14-й и 16-й книге) природу художественного творчества в связи с философией Спинозы, Гёте говорит об «отречении» («Entsagung») – не о том обыденном отречении, при котором человек отказывается от одного желания только для того, чтобы подпасть другому, а об отречении философа, который раз навсегда отказывается от всех своих страстей и со спокойной твердостью возвышается над ними. В этом он находит свой собственный идеал жизни: возвышаться над самим собою, быть хозяином в своем собственном доме, какие бы страсти, страдания и радости в нем ни царили.
«От силы, которая связывает все существа, освобождается человек, преодолевший самого себя».
Это объявляется в «Тайнах» глубочайшим смыслом всякой религии. Это «отречение» есть способность никогда не отдаваться целиком ни одному из чувств, которыми изменчивая воля старается оковать нашу личность, никогда не отождествлять своего «я» ни с одним из его желаний, никогда не ставить на одну карту всю жизнь.
В богатой событиями жизни Гёте мы встречаем его в массе положений, которые страстно овладевают им и бурно его волнуют; но никогда волны жизни не поглощают его целиком. Он сам есть всегда нечто большее, чем его страсть; ничто не овладевает им вполне. В нем есть остаток, в который не могут проникнуть и самые близкие ему люди, крепость, которая никогда не сдается и в конце концов отбрасывает всякую атаку. Именно это с внешней стороны часто казалось – вспомним, например, о его отношении к г-же фон Штейн – эгоизмом, холодностью и недоступностью, «олимпийством».
Лишь один человек подошел к нему совсем близко – это был Шиллер; лишь одно поразило его до глубины – это была потеря Шиллера. И именно потому в этом случае ему отказала спасительная сила искусства; на этот раз Бог не дает ему «сказать, как он страдает». Беспомощно надламывается этот гигант. Затем он пытается овладеть собою для творчества. Он хочет окончить «Дмитрия» (Речь идет о неоконченной драме Шиллера «Demetrius», имеющей темой известный эпизод из русской истории (Лжедмитрия I)) – ему не удается это. Начатая до того «Ахиллеида» (Achilleis), которая была, несомненно, призвана стать памятником рано потерянному другу, осталась также фрагментом. Этот удар был сильнее его. Месяцы проходят, прежде чем он способен написать «Эпилог к Колоколу». Время ничего не изменило в этом: величайшее испытание его не нашло себе того поэтического воплощения, в которое выливались все менее значительные события его жизни.
Но отречение, о котором мы говорили, означает еще нечто большее, и это возвращает нас к нашей проблеме. Если мы зададимся вопросом, от чего, собственно, приходится при этом отказываться, то предметом отречения мы должны будем признать не что иное, как характерное именно для выдающейся личности стремление разрушить границы своего собственного существа и расшириться до пределов целого, то фаустовское влечение, которое восклицает:
Вся жизнь людей, вся бездна горя, бед –
Все будет мной изведано, прожито.
Глубоко я хочу все тайны их познать,
Всю силу радости и горя испытать,
Душою в душу их до глубины проникнуть.
И с ними наконец в ничтожестве поникнуть.
Освобождение от этого влечения все знать, всем наслаждаться и все обнять собою есть жизненная мудрость, которую Гёте проповедовал особенно настойчиво. Она образует содержание обоих его трудов, над которыми он работал до самой старости и которые с одинаковым правом могут быть названы основными трудами его жизни; мы разумеем «Фауста» и «Вильгельма Мейстера». При этом «Мейстер» как поэтическое произведение гораздо менее блестящ, ослепителен и увлекателен, чем «Фауст», а потому и менее известен и популярен; зато с точки зрения этой гётевской жизненной мудрости он, быть может, еще поучительнее и интереснее «Фауста». Я хотел бы поэтому обратить на него ваше внимание. Не о романе, как таковом, хочу я говорить и не о его общем значении во всемирной литературе, а лишь о формулированной в нем основной культурно-философской идее. Правда, как и во второй части «Фауста», поэт и в «Годах странствия» настолько загромоздил простой план различными случайностями, выдумками и непонятной загадочностью, что это не только затруднило эстетическое наслаждение целым, несмотря на красоты отдельных мест, но и значительно затемнило понимание плана. Но именно в этом отношении оба основных произведения нашего поэта настолько взаимно уясняют и освещают одно другое, что о смысле содержащегося в них «последнего слова мудрости» не может оставаться никаких сомнений.
«Годы странствия» носят подзаглавие: «или Отрекающиеся». Что означает здесь отречение?
В «Годах учения» Вильгельм Мейстер переходит от одного приключения к другому. Он ищет себя самого, свое развитие, свое назначение. Но и к нему применимо то, что говорит о себе Фауст:
«Я лишь бродил по свету,
Всякое наслаждение хватал я за волосы».
Советы Вернера, который по отношению к нему играет ту же роль, как Антонио по отношению к Тассо, он презрел. В пестрой смене он отдавался влиянию разнообразных лиц, отношений, положений и становился при этом сам все более неустойчивым и неопределенным. Обилие воспринятых им впечатлений не могло сложиться в нем в единство, и, стремясь насладиться картиной всего мира, он сам от одного заблуждения бредет к другому. Так подпадает он влиянию, того таинственного общества «выдающихся» людей. которое в этом романе играет роль провидения. Здесь слышит он резкое слово Ярно: «Глупость это ваше общее образование!» Здесь он узнает, что «мастером» можно стать лишь путем самоограничения и что назначение человека надо искать лишь в профессии. Он должен отречься от своего блуждания в целом, от богатства чувств и стремлений: он должен узнать мир, реальный мир; работая и принося пользу, должен он искать свое место в нем. Странствовать должен он, пока не нашел этого места, не отдыхать, где ему хорошо, не наслаждаться: он должен творить. От самоизучения, от изнеженной заботы о личных отношениях он должен перейти к суровой действительности и к деятельным сношениям с людьми.
Тому же учит Гёте и в «педагогической провинции», в которую он нас вводит вместе со своим странствующим героем. Фантазия романа набрасывает картину воспитательного учреждения огромных размеров. Но педагогические теории XVIII века испытывают здесь своеобразное преобразование. Не «человек» в смысле Руссо воспитывается здесь, не пиетист, который есть одновременно гражданин и этого мира, и иного, а мужчина, совершенство которого состоит в самоограничении и подчинении целому . Каждый сообразно своим способностям должен быть подготовлен к определенной профессии, чтоб быть в состоянии выполнить возможно больше в планомерном сотрудничестве с другими.
Таким образом, профессиональная деятельность, в которой каждая отдельная личность находит свое истинное назначение, оказывается обусловленной целесообразной организацией общества. Не только обучение юношества, но и применение сил зрелых людей определяется «союзом». Личность, достигшая полного своего развития в своей профессии, тем самым находится на службе у целого. «Годы странствия» набрасывают проект организации труда . Они напоминают этим скорее притязательные утопии тогдашней художественной литературы. Отдельные характерные черты они, несомненно, заимствуют из жизни «6paтской общины». Гётевский «союз» также распространяет свои связи далеко за пределы отдельных стран и народов; область его деятельности лежит по обе стороны океана. Странствующие становятся эмигрантами, и роман открывает нам широкие социальные и экономические перспективы. Характерно при этом для Гёте и для немецкого мышления его времени совершенное игнорирование государственной власти. Социальная организация его «союза» есть свободное соединение, охватывающее весь земной шар, не примыкая не только по существу, но даже и внешним образом к государственной жизни: она не знает ни политических границ, ни политических организаций.
Итак, при переходе от годов учения к годам странствия эстетический идеал сменяется практическим. Тот же переворот, как известно, совершается во второй части «Фауста». Из жизни полной бурных стремлений, из наслаждения миром в первой части поэт переносит сначала своего героя в тишину эстетического созерцания. «В пестром отблеске лежит пред нами жизнь». Фауст направляется к «матерям» в царство идей, чистых форм, и перед ним восстают идеалы человечества, как их создало искусство. В классической Вальпургиевой ночи, в эпизоде с Еленой, сочетающейся с германским Фаустом, перед нами проходят исторические образы, тени духов, полные чистой внутренней жизненной силы: это есть «Феноменология духа», переполненная загадками и намеками, подобно гегелевской. Но из этого царства художественных теней Фауст бросается в горячую борьбу исторических сил за мировое господство, и мы видим его кончающим жизнь среди могущественной борьбы человека против сил природы; он отвоевывает у моря землю, чтобы «на свободной почве стоять с свободным народом».
Таким образом, Фауст до конца остается властителем, самодержавной властной личностью, которая пускает в ход магические силы ада и неба, чтобы достигнуть свободной, искупительной деятельности; в «Годах странствия Вильгельма Мейстера» проблема жизни находит свое разрешение в «союзе», в обществе, которому подчиняется личность, в практическом сотрудничестве. Роман изображает это так, что личные отношения к людям, возникшие в годы учения, вплетаются здесь в общественную организацию; но это не только технически обусловлено эстетической связью, частей произведения, но и имеет более глубокий смысл: деятельное общение не разрушает и не уничтожает этих личных отношений, а, наоборот, уясняет очищает их, углубляет и укрепляет. «Вильгельм Мейстер», как и «Фауст», есть произведение человека, которому судьба дала возможность в продолжение 80-летней жизни испытать и художественно выразить грандиозный переворот немецкого национального духа. Его Мейстер есть тип немца, переходящего из XVIII в XIX столетие. От игры в куклы к деятельности хирурга, которому суждено возродить своего сына к новой жизни: от мостков, изображающих мир, к самому волнующемуся Миру, от царства мыслей и образов к царству труда и дела – таков путь, которым «народ поэтов и мыслителей» пришел к основанию своего национального могущества. И что Гёте пророчески и изобразил в двух основных своих трудах, того же требовали Кант и Фихте, перенося центр тяжести философского миропонимания из теоретического разума в практический.
Итак, то отречение, в котором, по мнению Гёте, личность освобождает самое себя, со своей положительной стороны есть деятельность . «В начале было дело» – так толкует уже в первой части Фауст смысл Евангелия, а прощальное слово титана в «Пандоре» гласит: «Настоящее празднество для истинного мужа есть дело». Поэтому и в «Фаусте» глубочайшее разрешение проблемы заканчивается словами:
«Кто вечно стремится и трудится, того мы можем спасти».
Нельзя найти более благородного примера такой неутомимой деятельности, чем жизнь самого Гёте; и самое симпатичное и отрадное при этом есть то, что эта неутомимая деятельность вытекает у него не из насильственного принуждения, а из глубочайшего влечения его натуры. Он постоянно занят; колоссальные размеры его переписки, его «дилетантствование» во всех искусствах и науках, его непрерывное собирание материалов и набрасывание заметок свидетельствуют об этом – не говоря уже о его трудах. Прочтите, например, письма к Шиллеру из его путешествия по южной Германии в 1797 году. Повсюду он занят коллекционированием, он собирает для своего архива. Он не знает, для чего это ему понадобится и понадобится ли вообще, но он собирает; он должен быть деятельным, должен работать, усваивать. Так же выполнял он свою министерскую службу. Не только в качестве куратора Йенского университета, но и во всех остальных административных областях он «работал» в полном смысле слова. Тонкое, доходящее до мельчайших деталей изображение ткацкого ремесла, которое он ввел в «Годы странствия», указывает на это его трудолюбие. К нему самому применимы слова Фауста:
«Когда на ложе сна в довольстве и покое
Я упаду, тогда – увы – настал мой срок».
Фихте назвал однажды леность основным грехом человека; вряд ли найдется человек, который был бы более свободен от этого греха, чем Гёте. В его жизни нет места мечтаниям и праздности. Характерным выражением этого служит небольшое стихотворение, поводом к которому послужило замечание Жан-Поля. Последний где-то говорит: «У человека есть две с половиной минуты: одна, чтобы улыбнуться, другая, чтобы вздохнуть, и полминуты, чтобы любить: ибо в эту последнюю минуту он умирает». Под этим сентиментальным извращением Гёте написал для своего внука:
«В часе шестьдесят минут, и больше тысячи – в дне: сынок, сообрази, сколько можно совершить за это время».
На этой деятельности, и на ней одной, Гёте основывает, наконец, право и степень самостоятельного существования личности во вселенной. Уже его Прометей на вопрос «Сколько же принадлежит тебе?» отвечает гордыми словами:
«Нет ничего ни выше, ни ниже круга, обнимающего мою деятельность».
Это самостоятельная ценность действенной личности постоянно возрастала в миросозерцании Гёте. От того спинозистского учения о всеединстве, убеждения, он выразил в гимне «Природа», он перешел к миросозерцанию, которое он сам выражает термином «Komparativ»: истинное содержание жизни вселенной он ищет в единичных существах, в деятельности которых развиваются их первоначальные задатки. Эти существа он позднее охотно называет, вместе с Лейбницем, «монадами» или, вместе с Аристотелем, «энтелехиями». Эти обозначения содержат указание, что изменение его миропонимания было обусловлено не только его собственным, более зрелым жизненным опытом, но и главным образом изучением органического мира, которому он отдался с таким живым интересом. Идея его морфологических исследований, его метаморфозы растений и животных заключалась в том, чтобы найти в каждом органическом существе ту первоначальную форму, которая лежит в основе всего многообразия его проявлений в качестве действенной и ассимилирующей окружающую среду силы:
… По вечным законам
Члены их тела всегда образуются; даже и в формах
Самых причудливых первоначальная форма таится...
Всюду меняются способы жизни согласно устройству,
Всюду устройство меняется способу жизни согласно.
Вечный порядок божественный правит созданьями всеми,
Вечно они изменяются внешним покорны влияньям.
Эту «чистую форму» он называет «энтелехией, которая ничего не воспринимает, не присвоив себе посредством самостоятельного действия». На таких энтелехиях покоится вся жизнь, и в их совокупности они свидетельствуют сами, в свою очередь, о последней, простейшей основной форме. Но прежде всего человек со своим индивидуальным характером есть такое первоначальное, постоянно развивающее самого себя существо. «Упорство личности и то, что человек отклоняет от себя не свойственное ему, есть для меня доказательство, что нечто подобное (именно энтелехия) существует».
На сознании этой самостоятельной деятельности Гёте основывает и веру в бессмертие ; она есть для него, как и для Канта, постулат, а не предмет познания. «Человек, – говорит Гёте, – должен верить в бессмертие; он имеет на это право, это сообразно ею природе. Убеждение в загробной жизни вытекает для меня из понятия деятельности. Ибо если я до конца жизни неутомимо работаю, то природа обязана отвести мне другую форму существования, когда моя нынешняя форма не может уже вмещать мой дух». В устах восьмидесятилетнего старика какое удивительное свидетельство неразрушимой, неисчерпаемой жизненной силы! Поэтому он может мыслить продолжение жизни лишь как продолжение деятельности: «Я не знал бы, что мне делать с вечным блаженством, если оно не ставило бы мне новых задач и новых трудностей для преодоления».
Но именно потому бессмертие не есть для него благо, выпадающее само по себе на долю каждого, а зависит от ценности деятельности. «Мы не одинаково бессмертны, и для того, чтобы показать себя в будущем великой энтелехией, надо быть ею уже теперь». Соответственно этому мы находим у Гёте в старости распределение живых существ по рангу, как и у Лейбница; он говорит о мировых душах и душах планет над человеком, как и о душах собак и т.п. ниже его. «Подлое отребье мира, – восклицает он однажды юмористически, – обыкновенно слишком удобно располагается на свете. Это настоящая куча монад, в которую мы попали в этом уголке мира». А что поэт таким же образом различал ценность и судьбу человеческих душ, это доказывают слова предводительницы хора, с которыми она обращается к служанкам Елены:
«Кто не заслужил себе имени и не стремится к добру, тот принадлежит темным силам, – сгиньте же!».
Характерно при этом для нравственного миросозерцания Гёте, что он представлял себе сохранение этого высшего блага, личности, в зависимости не только от успеха деятельности, но и от ее мотивов: «Не только заслуга, но и верность сохраняет нам личность».
Если мы резюмируем все вышеизложенное, то принцип, с точки зрения которого Гёте рассматривает жизнь людей, окажется не чем иным, как сознанием действенной личности в закономерной связи вещей, как оно выражено «демоном» в часто цитируемом «орфическом слове» («orphisches Urwort»):
«Как в тот день, когда ты был подарен миру, солнце стояло на небе, приветствуя планеты, по тому же закону, действовавшему при твоем возникновении, ты постепенно и развивался далее. Таким ты должен быть, ты не можешь убежать от себя; так говорили уже Сивиллы и пророки; и никакое время и никакая сила не могут раздробить отчеканенную форму, которая находится в живом развитии».
Но если, таким образом, личность, сознавая свое право и свою ценность, в своем своеобразии воспринимает из окружающего ее мира лишь то, что она своей деятельностью может внутренне усвоить, то мы все же видим, что в высших, творческих областях деятельности она выходит за пределы самой себя; на вершинах жизни индивид становится родом, монада – миром. Все истинно производительные деятельности человеческого духа, всякий новый луч познающей мысли, всякое первоначальное переживание в чувстве и созерцании, всякая творческая сила искусства содержат известное освобождение от личного, индивидуального; во всем этом единичное есть нечто большее, чем просто единичное; оно вместе с тем содержит в себе и целое. Высший подъем личности есть конец личности. «Преодолей свое существо!» – этот возглас слышит Фауст, предпринимая таинственное путешествие в мир чистых форм. Здесь еще раз, в высшем смысле, применимы слова: «Пожертвовать собой есть наслаждение». И точно так же в органической жизни высший момент единичного бытия есть тот творческий подъем, в котором оно возвышается до рода. Этому бессмертию личности в ее превращении в идею Платон учил в прекраснейшем из своих произведений, в «Симпозионе» («Пире»); Гёте с благоговейным символизмом выразил его в одном из глубокомысленнейших стихотворений «Восточно-западного дивана» («West-ostlicher Diwan»), носящем заглавие «Блаженное стремление» («Selige Sehnsucht»):
БЛАЖЕННОЕ ТОМЛЕНИЕ
Скрыть от всех! Поднимут травлю!
Только мудрым тайну вверьте:
Все живое я прославлю,
Что стремится в пламень смерти.
В смутном сумраке любовном,
В час влечений, в час зачатья,
При свечи сиянье ровном
Стал загадку различать я:
Ты - не пленник зла ночного!
И тебя томит желанье
Вознестись из мрака снова
К свету высшего слиянья.
Дух окрепнет, крылья прянут,
Путь не труден, не далек,
И уже, огнем притянут,
Ты сгораешь, мотылек.
И доколь ты не поймешь:
Смерть для жизни новой, -
Хмурым гостем ты живешь
На земле суровой. (Пер. Н. Н. Вильмонта)
Перевод с немецкого - В. Волжский (1992 г.)
Вильгельм Виндельбанд родился в Потсдаме 11 мин 1848 г., умер в Гейдельберге 22 октября 1915 г. В 1876 г В. Виндельбанд занимает профессорскую кафедру в Цюрихе, в 1877 г. во Фрейбурге, в Брейсгау, в 1882 г. – Страсбурге, и, наконец, в 1903 г., после выхода на пенсию Куно Фишера, учителя Виндельбанда, его приглашают в Гейдельберг, где Виндельбанд и преподавал до конца своих дней. В. Виндельбанда отличает глубокое знание истории философии. Его «История философии» (1892) была признана, в своем 3-м издании («Учебник по истории философии», 1903), официальным учебным пособием для немецких университетов. Опираясь на критическую философию Канта, Виндельбанд попытался изложить философию как критическую науку о всеобщезначимых ценностях. Совместно с Г. Риккертом (Н. Rickert) Виндельбанд основал так называемую «Юго-Западную Немецкую школу неокантианства». Подобно тому как неокантианство Германа Когена (Н. Cohen) восходит к «старому» кантианству Соломона Маймона (1754–1800), так «новое» кантианство В. Виндельбанда можно также вывести отчасти из взглядов Якоба Сигизмунда Бека (1761–1840).
Основные произведения В. Виндельбанда:
1. История новой философии: В 2 т. 1878–1880.
2. Прелюдии. 1884.
3. История и естествознание. 1894.
4. Платон. 1900.
5. О свободе воли. 1904.
6. Философия в немецкой духовной жизни XIX века. 1909.
7. Введение в философию. 1914.
Памятник молодому Гёте в Страсбурге открыт в октябре 1903 года.
Читай биографию философа: кратко о жизни, основных идеях, учениях,
философии
ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ
ГЁТЕ
(1749-1832)
Немецкий поэт, мыслитель, естествоиспытатель. В итоговом философском сочинении - трагедии "Фауст" (1808-1832), насыщенной научной мыслью своего времени, воплотил поиски смысла жизни, находя его в деянии. Гете противопоставлял материалистически-механическому естествознанию Запада творческое учение о природе. Кроме литературных произведений, написал трилогию "Опыт о метаморфозе растений" (1790), "Учение о цвете" (1810).
Восемнадцатилетняя "имперская советница" Катарина-Элизабета Текстор-Гете (будущая великолепная "фрау Айя") мучилась уже третий день, а ребенок не хотел появляться на свет. Наконец он появился, "весь почерневший" и без признаков жизни.
Часы в доме на франкфуртской Хиршграбен били полдень 28 августа 1749 года - "расположение созвездий мне благоприятствовало солнце, стоявшее под знаком Девы, было в зените, Юпитер и Венера взирали на него дружелюбно, Меркурий - без отвращения, Сатурн и Марс ничем себя не проявляли, лишь полная Луна была тем сильнее в своем противостоянии, что настал ее планетный час. Она-то и препятствовала моему рождению. "Врача не было роды приняли повивальная бабка и бабушка. Долгое время они растирали вином область сердца новорожденного, пока, наконец, обессилевшая мать не услышала радостный крик бабушки "Элизабета, он жив!".Так появился на свет будущий великий поэт и мыслитель.
Род Гете по отцовской линии шел из Тюрингии, по материнской - из Франконии, и далее из Гессена. Среди его предков были князья и крестьяне, ремесленники и художники (в том числе знаменитый живописец и график XVI века Лукас Кранах), дворяне и члены муниципалитетов. Можно смело сказать, что он принадлежал всем слоям немецкого народа. Дед его, сын кузнеца, обучился портняжному ремеслу, а отец, тяготевший к искусствам и рисованию, сумел получить степень доктора права и вообще являл собой тип просвещенного бюргера, собрал богатейшую библиотеку, прекрасную галерею картин и скульптур и мечтал увидеть своего первенца дипломированным юристом.
Семнадцатилетний Вольфганг по настоянию отца и вопреки собственной
воле, влекущей его к изучению древних языков и истории, едет в Лейпциг
изучать право. "В логике меня удивляло, что те мыслительные операции,
которые я запросто производил с детства, мне отныне надлежало разрывать
на части, членить и как бы разрушать, чтобы усвоить правильное
употребление оных. О субстанции, о мире и о Боге я знал, как мне
казалось, не меньше, чем мой учитель, который в своих лекциях далеко не
всегда сводил концы с концами… С юридическими занятиями дело
тоже обстояло не лучше..". Лекции навевали на него скуку.
Характеристики Гёте этого периода: ветреный, рассеянный, непостоянный,
вспыльчивый, причудливый, неуравновешенный - таким он остался в памяти
очевидцев, да и в своей собственной. Необузданное поведение не
замедлило сказаться острейшими ситуациями; в скором времени выяснилось,
что "надменный лорд с петушиными ногами" таит в себе реального
кандидата в самоубийцы. Первый серьезный конфликт с миром выразился в
двойном покушении на собственную жизнь.
У Гёте было слабое здоровье. В 19 лет - произошло кровотечение из легких, в 21 год у него уже была до крайности расшатанная нервная система. Гёте не мог переносить даже малейшего шума, любой звук приводил его в бешенство и исступление. Но усилиями воли, невероятной настойчивостью он преодолел свои слабости, укрепил здоровье.
Позже, чтобы побороть частые головокружения и страх высоты, Гёте заставлял себя подниматься на соборную колокольню. Он посещал больницы, следил за хирургическими операциями и таким образом укреплял свою психику. Ради того чтобы преодолеть свое неприятие шума, Гёте приходил в казармы, заставляя себе подолгу слушать солдатские барабаны. Он пристраивался к проходящей воинской части и принуждал себя пройти под грохот барабанов через весь город. Так Гёте воспитывал в себе выдержку, которая позже поражала его современников.
К этому времени, по-видимому, относится первый гётевский опыт по части "невозможного". Опыт, который развил в нем невероятное, с медицинской точки зрения, умение прожить почти восьмидесятитрехлетнюю и во всех смыслах здоровую жизнь с туберкулезом.
Учебу он продолжил в Страсбурге (1770-1771).
Гёте обуревала жажда знаний, в основе которой лежала программа-максимум: усвоить "все" и, значит (он уже предчувствовал это), стать "всем". Он приступил к изучению медицины, химии, ботаники. О лейпцигской скуке уже не могло быть и речи; занятия носили не обезличенно-вынужденный характер, а определялись на этот раз правилами, которым он и на девятом десятке лет будет следовать столь же неукоснительно, как в юности: "Рассматривать вещи с максимальной сосредоточенностью, вписывать их в память, быть внимательным и не пропускать ни одного дня без какого-либо приобретения.
Далее, предаваться тем наукам, которые дают духу прямое направление и учат его сравнивать вещи, ставить каждую на надлежащее место, определять ценность каждой: я разумею настоящую философию и основательное знание". Диссертация со скоростью моцартовских опер писалась в последние две-три недели страсбургского пребывания. После окончания университета - четырехлетняя адвокатская практика в Вецларе и Франкфурте, где, впрочем, молодой лиценциат зарекомендовал себя не лучшим образом: в судебных актах сохранились жалобы на некорректность выражений доктора Гете.
В сентябре 1770 года он познакомился с Гердером. Гердер, который был старше Гёте на пять лет, уже к тому времени стал знаменитостью. Нужно представить себе степень потрясения юного студиозуса, столкнувшегося с этим "явлением богов" (так он назвал Гердера). Отныне и навсегда ум, сердце и воля подчинялись следующим канонам: 1) подлинный индивидуализм возможен только через универсализм, 2) видеть - значит всегда видеть целое, 3) познание - это страсть, 4) истина - это продуктивность.
Наконец написан сентиментальный роман "Страдания молодого Вертера". Книга вышла анонимно, в двух томах в Лейпциге, помеченная 1774 годом. "Это создание… я, как пеликан, вскормил кровью собственного сердца и столько в него вложил из того, что таилось в моей душе, столько чувств и мыслей, что, право, их хватило бы на десяток таких томиков. Впрочем я всего один раз прочитал эту книжку, после того как она вышла в свет, и поостерегся сделать это вторично. Она начинена взрывчаткой! Мне от нее становится жутко, и я боюсь снова впасть в то патологическое состояние, из которого она возникла". В каком-то смысле "Вертер" оказался западней, и если кому-то суждено было ускользнуть из нее, то в первую очередь самому творцу; западня выглядела повальным психозом упоения гибелью и вереницей реальных Вертеров, добровольно покидающих жизнь в голубых сюртуках и желтых жилетах и с "Вертером" в карманах. Вот некоторые из характеристик Гёте этого периода, принадлежащие его друзьям и знакомым: "Гете - гений с головы до пят… Нужно лишь побыть с ним час, чтобы признать в высшей степени смехотворным требовать от него думать и поступать иначе, чем он думает и поступает в действительности" (Фридрих Якоби). "Он мог бы быть королем. Он обладает не только мудростью и простосердечностью, но и силой" (Лафатер).
Гёте вошел в историю не только как гениальный поэт и мыслитель. Он слыл большим почитателем женщин, у него было множество любовниц. И только одна из них удостоилась брачных уз. В 1788 году он познакомился с двадцатитрехлетней цветочницей. Она читала с трудом, говорила с большим тюрингским акцентом. Гигант духа и необразованная девушка - можно ли себе представить двух более непохожих людей? Тем не менее в течение семнадцати лет она оставалась его любовницей, и только в 1806 году Гете женился на ней. В 1789 году у них родился внебрачный сын Август. Родители узнали о внуке только через пять лет…
7 ноября 1775 года двадцатишестилетний Гете по приглашению герцога Карла Августа прибыл в Веймар. "Ему едва минуло восемнадцать лет, когда я приехал в Веймар… Он был тогда еще очень молод… и мы немало сумасбродствовали".
В Гёте он не чаял души и сразу же наделил его всеми полномочиями верховной власти: сперва назначил тайным легационным советником с правом решающего голоса в Тайном совете, а позже и действительным тайным советником. Практически речь шла о неограниченной власти; в ведении "автора Вертера" оказались: внешняя политика, финансы, военное дело, народное образование, строительство дорог и каналов, мельницы и орошение, рудники и каменоломни, богадельни и театр. Недовольство веймарской знати не знало предела и грозило перерасти в бунт, но герцог настоял на своем. Аргумент был прост и административно невероятен: "Использовать гениального человека там, где он не может применить свои необыкновенные дарования, значит употребить их во зло".
Ознакомившись с финансовым положением и обнаружив там крах, он отстранил от дел всех, единолично занялся вопросом и в кратчайший срок навел совершенный порядок (кстати, увеличив ежегодный апанаж двора с 25 тысяч до 50 тысяч талеров). "Величайший дар, за который я благодарен богам, состоит в том, что быстротой и разнообразием мыслей я могу расколоть один-единственный ясный день на миллионы частей и сотворить из него маленькую вечность". Гёте были основаны или впервые "задействованы": библиотеки, собрание картин, собрание эстампов, нумизматический кабинет, так называемая кунсткамера (содержащая антиквариат и курьезы), художественная школа, параллельно с последней Литографический институт в Эйзенахе, музеи и т. д. Содержательная сторона дела прояснится на одном лишь примере: минералогический музей в первые веймарские годы Гёте представлял собою крохотную и жалкую любительскую коллекцию; после его смерти это было уже одно из самых богатых и научно значимых собраний во всей Европе.
И все-таки он задыхался. "Я считал себя мертвым", - скажет он чуть позже, осмысливая уже в Италии последние месяцы веймарского одиннадцатилетия; спасение и на этот раз было инстинктивным.
3 сентября 1786 года в три часа утра Гёте тайком покинул Карлсбад, где он вместе с высшим веймарским обществом отдыхал и лечился. Об отъезде не знал никто, даже герцог; в кармане лежали документы на имя Жана Филиппа Меллера, живописца. Неясна была даже цель побега; путь лежал поначалу в сторону Мюнхена; потом оказалось, что он вел в Италию, ибо попасть любой ценой надо было именно в Италию.
Два года беглец провел в Италии, наслаждаясь солнцем, морем, прекрасным климатом, живостью и непосредственностью итальянцев - и, конечно же, творениями древности и эпохи Возрождения.
А затем возвратился в Веймар. И вновь заботы - о Веймарском театре, веймарской библиотеке, Иенском университете, куда Гёте, ставший его официальным попечителем, приглашал, не скупясь, лучшие умы Германии - историка Людвига Окена, философа Фридриха Шеллинга… Тогда же началась многолетняя и нежная дружба Гёте с Фридрихом Шиллером, началась с приглашения последнего на должность преподавателя истории в этот университет.
Вместе с Шиллером Гёте углубляется в изучение античного искусства, ведомый во многом блестящими штудиями Иоганна Иоахима Винкельмана, тоже бюргерского сына, ставшего "главным арием" и "президентом древностей" Ватикана, видевшего в благородной простоте и спокойном величии античного искусства не только норму прекрасного на все времена, но и результат определенного государственного устройства и политических свобод.
Гёте наверняка поспорил бы и с теми, кто позднее отождествлял его миропонимание с гегелевским - ибо человеческий дух у Гёте стремился не к самоотождествлению с заранее заданным "мировым духом", как у Гегеля, а двигался вечно "вперед и ввысь", к бесконечному, трудноопределимому, символически загадочному, но безусловно облагораживающе-прекрасному, и идея прогресса, чуждая Гегелю, была в высшей степени близка поэту.
Отсюда - широта интересов, ведь Гёте был еще и естествоиспытателем, занимался геологией, минералогией, ботаникой, анатомией, открыл наличие "межчелюстной" кости у человека, создал оригинальное учение о цвете, спорил с "корпускулярной" теорией Исаака Ньютона, интересовался астрономией, астрологией, химией, а также мистикой… И сам гравировал, рисовал, оставил свыше полутора тысяч рисунков; одно время даже колебался - не избрать ли вместо литературного труда путь художника?
Отсюда предпочтение опыта - абстракции. Отсюда - почти такое же, как у Спинозы, обожествление природы. Отсюда - удивительно острое и неизменное чувство сопричастности всему происходящему, что делало Гете "естественным человеком" не в руссоистском "первобытном", а в самом полном и всевременном значении этих слов.
Многие отмечали терпимость Гёте, его способность восхищаться одаренными людьми - почти со всеми своими выдающимися современниками он был дружен или по-доброму знаком. А о тех чувствах, которые он сам умел вызывать в людях, свидетельствует не только пример Шиллера, но и судьба Иоганна Петера Эккермана, явившегося к Гёте начинающим литератором за советом и поддержкой и без колебаний отказавшегося от собственного призвания во имя счастья ежедневного общения с великим поэтом в качестве его секретаря и доверенного собеседника, памятью чему - и памятником самому Эккерману - стали его всемирно известные "Разговоры с Гёте в последние годы его жизни".
Гёте умел по достоинству ценить и тех, кто был по своей сути чужд ему. Так, Наполеона, вспоминая о личном общении, он охарактеризовал как "квинтэссенцию человеческого" (примечательно, что император встретил поэта почти однозначным "евангельским" восклицанием: "Вот человек!"). Да и значение Французской революции, несмотря на критическое отношение к "взрыву", нарушающему ход плавной, "ненасильственной" эволюции, Гёте осознал уже в 1792 году, распознав в ней не просто мятеж разнузданной черни, но начало новой исторической эпохи; незадолго же до смерти признавал и благодетельные последствия революции, которые, по его словам, не сразу были видны.
Для Гёте все в мире было достойно уважения и в конечном счете равновелико: Христос и Будда, Прометей и Магомет, масонство и суфизм; китайская поэзия интересовала его ничуть не меньше, чем, например, английская. Именно Гёте принадлежит идея всемирной литературы как целого, имеющего общие законы развития. Гёте не признавал границ между государствами, устанавливаемых честолюбием и войнами, называя истинной трагедией не "гибель отечества", а разорение крестьянского двора. Он стал не только сыном своего народа и своего века, но и гражданином мира в самом высоком значении этих слов; историческим посредником, миссионером, посланцем из XVIII века (которому он принадлежал в большей мере, чем XIX, хотя и умер 22 марта 1832 года) последующим столетиям.
С какой бы стороны ни подходили мы к гетевскому мировоззрению, какие бы разночтения и кривотолки, интерпретации и точки зрения оно ни провоцировало, базис его навечно определен следующими положениями: "Все великое, произведенное человечеством, всегда возникало из индивидуума".
"Истину познают лишь тогда, когда опытно постигают ее в ее возникновении в индивидууме".
"Истина - ничто сама по себе и для себя. Она развивается в человеке, если он позволяет миру воздействовать на его чувства и дух. Каждый человек, сообразно своей организации, имеет собственную истину, которую только он может понять в ее интимных чертах. Кто достигает всеобще-значимой истины, не понимает себя".
"Истина заложена в целостном личности; она получает свой характер не только из рассудка и разума, но и из образа мыслей. Для характеристики научной личности недостаточно простого перечисления истин, возникших из ее головы. Необходимо знать сущность всего человека, чтобы понять, почему идеи и понятия приняли в этом случае именно эту определенную форму". "Истинное есть всегда индивидуально-истинное значительных людей".
Ни одному из этих положений не отвечала философия, с которой пришлось столкнуться Гете. Он и не считал себя философом. "Для философии в собственном смысле, - признается он, - у меня не было органа". Но отношение его к ней всегда граничило с сильной неприязнью, от которой он никак не мог избавиться при малейшем соприкосновении с отвлеченным мышлением. "Она подчас вредила мне, мешая мне подвигаться по присущему мне от природы пути". Исключения не составила даже немецкая классическая философия в лице трех своих представителей - Фихте, Гегеля и Шеллинга. Все трое были пронизаны мощными импульсами гётевского мировоззрения, вплоть до того, что считали себя так или иначе философскими глашатаями этого мировоззрения. Для Фихте Гёте - "пробный камень" философии как таковой. Гегель прямо благодарит его за новые перспективы философского мышления. Шеллинг считает его своим духовным отцом. Тем не менее дистанция сохраняла силу, и опасливость то и дело давала о себе знать. "Эти господа, - отзывается Гете о фихтеанцах, - постоянно пережевывают свой собственный вздор и суматошатся вокруг своего "Я". Им это, может быть, по вкусу, но не нам, остальным". Раздражение не обходит и Гегеля: "Я не хочу детально вникать в философию Гегеля, хотя сам Гегель мне приятен". Исключение, казалось бы, составил Шеллинг, прививающий философии моцартовскую легкость и быстроту, но природа и здесь взяла свое: "С Шеллингом я провел хороший вечер. Большая ясность при большой глубине всегда очень радует. Я бы чаще виделся с ним, если бы не надеялся еще на поэтическое вдохновение, а философия разрушает у меня поэзию".
Когда автор "Вертера" весной 1790 году сдал в печать "Опыт о метаморфозе растений", его издатель Гешен решительно отказался печатать это сочинение. Книга вышла у другого издателя и была встречена с враждебным холодом. Симптоматичным оказалось то, что отпор шел по единому фронту. Поэт должен был оставаться поэтом; даже в 1808 году, при встрече с Гёте, Наполеон приветствовал именно автора "Вертера", той самой "змеиной шкуры", которая давно уже была окончательно сброшена. В письмах Гете, в статьях и заметках, беседах и дневниках эта тема звучит неослабевающе, почти безутешно; впечатление таково, что боль и бессилие что-либо изменить доходят здесь до почти физической муки. "Более полувека я известен на родине и за границей как поэт, во всяком случае меня признают за такового; но что я с большим вниманием и старательностью изучал природу в ее общих физических и органических явлениях… это не так общеизвестно, и еще менее внимательно обдумывалось… Когда потом мой "Опыт", напечатанный сорок лет назад на немецком языке… теперь, особенно в Швейцарии и Франции, стал более известным, то не могли достаточно надивиться, как это поэт… сумел на мгновение свернуть со своего пути и мимоходом сделать такое значительное открытие".
"Я не похваляюсь тем, что я сделал как поэт, - часто говаривал Гёте, - превосходнейшие поэты жили одновременно со мной, еще лучшие жили до меня и будут жить после. Но то, что в наш век в многотрудной науке, занимающейся проблемами цвета, мне одному известна истина, это преисполняет меня гордости и сознания превосходства над многими".
Философское развитие Гёте шло от антипатии к школьной философии в лейпцигский период к пробуждению собственного философского мышления в страсбургский период и отсюда - к занятиям натурфилософией в первый веймарский период в полемике с Платоном, неоплатонизмом, Джордано Бруно и прежде всего со Спинозой. После путешествия по Италии у него появляется интерес к учению о цветах и к сравнительной морфологии ("Опыт о метаморфозе растений", 1790).
Он вступает в принципиальную полемику с Шиллером по вопросу об отношении мышления и созерцания к идее, к "прафеноменам", занимается изучением кантовской философии, особенно "Критики практического разума" и "Критики способности суждения", а также романтики и творчества Шеллинга. Со временем у Гёте все яснее вырисовывается собственная "система" древней философии (мудрости), изложенная, в частности, в стихотворениях на темы древности, прежде всего в "Орфических первоглаголах", "Завете", "Одно и все". Когда Гёте говорит о себе: "Для философии в собственном смысле у меня нет органа", он тем самым отвергает логику и теорию познания, но не ту философию, которая "увеличивает наше изначальное чувство, что мы с природой как бы составляем одно целое, сохраняет его и превращает в глубокое спокойное созерцание". Этим отличается также его творческая активность. Каждый человек смотрит на готовый, упорядоченный мир только как на своего рода элемент, из которого он стремится создать особенный, соответствующий ему мир".
Высшим символом мировоззрения Гёте является Бог-природа, в которой вечная жизнь, становление и движение, открывает нам, "как она растворяет твердыню в духе, как она продукты духа превращает в твердыню". Дух и материя, душа и тело, мысль и протяженность, воля и движение - это для Гёте дополняющие друг друга основные свойства. Всего, отсюда также для деятельно-творческого человека следует: "Кто хочет высшего, должен хотеть целого, кто занимается духом, должен заниматься природой, кто говорит о природе, тот должен брать дух в качестве предпосылки или молчаливо предполагать его".
"Человек как действительное существо поставлен в центр действительного мира и наделен такими органами, что он может познать и произвести действительное и наряду с ним - возможное. Он, по-видимому, является органом чувств природы. Не все в одинаковой степени, однако все равномерно познают многое, очень многое. Но лишь в самых высоких, самых великих людях природа сознает саму себя, и она ощущает и мыслит то, что есть и совершается во все времена".
О месте человека во Вселенной Гете говорит: "У нее есть гармоническое Единое. Всякое творение есть лишь тон, оттенок великой гармонии, которую нужно изучать также в целом и великом, в противном случае всякое единичное будет мертвой буквой. Все действия, которые мы замечаем в опыте, какого бы рода они ни были, постоянно связаны, переплетены друг с другом. Мы пытаемся выразить это: случайный, механический, физический, химический, органический, психический, этический, религиозный, гениальный. Это - Вечно-Единое, многообразно раскрывающееся. У природы - она есть все - нет тайны, которой она не открыла бы когда-нибудь внимательному наблюдателю". "Однако каждого можно считать только одним органом, и нужно соединить совокупное ощущение всех этих отдельных органов в одно-единственное восприятие и приписать его Богу".
В центре гётевского понимания природы стоят понятия, прафеномен, тип, метаморфоза и полярность.
Общее существование человека он считает подчиненным пяти великим силам, которые поэтически образно воплощает в "орфические первослова".
1) демон личности, 2) идея энтелехии, 3) тихе (судьба) как совокупность роковых жизненных обстоятельств, 4) эрос как любовь в смысле свободной и радостной решимости, 5) ананке как необходимость, вытекающая из конкретных жизненных обстоятельств, 6) эльпис как надежда на будущую свободу и саморазвитие.
Гёте энергично отстаивал право рассматривать и толковать мир по-своему. Однако из его произведений не вытекает, что он считает это толкование единственно допустимым. Согласно Гадамеру, в трудах Гёте живет "подлинное стремление к метафизике"; на К. Ясперса произвела большое впечатление "великолепная нерешенность"; Ринтелен считал Гёте человеком, который, несмотря на демонию и противоречивость натуры, сохранил "живой дух".
* * *
Вы
читали биографию философа, в которой описана
жизнь, основные
идеи философского учения мыслителя. Эту биографическую статью можно
использовать в качестве доклада (реферата, сочинения или
конспекта)
Если же вас интересуют биографии и идеи других философов, то
внимательно читайте (содержание слева) и вы найдёте жизнеописание
любого знаменитого философа
(мыслителя, мудреца).
В основном же, наш сайт посвящён философу Фридриху Ницше (его
мыслям, идеям, произведениям и жизни) но в философии
всё связано, поэтому, трудно понять одного философа, совсем не
читая
всех остальных...
... В XVIII веке появилось философское и научное
направление - "Просвещение". Гоббс, Локк, Монтескье, Вольтер, Дидро и
другие выдающиеся просветители выступали за общественный договор между
народом и государством ради обеспечения права на безопасность, свободу,
благосостояние и счастье... Представители немецкой классики - Кант,
Фихте, Шеллинг, Гегель, Фейербах - впервые осознают, что человек живет
не в мире природы, а в мире культуры. Век XIX - век философов и
революционеров.
Появились мыслители, которые не только объясняли мир, но и желали
изменить его. Например - Маркс. В этом же веке появились Европейские
иррационалисты - Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше, Бергсон... Шопенгауэр и
Ницше являются основоположниками нигилизма, философии отрицания,
которая имела много последователей и продолжателей. Наконец в XX веке
среди всех течений мировой мысли можно выделить экзистенциализм -
Хайдеггер, Ясперс, Сартр... Исходным пунктом экзистенциализма
является философия Кьеркегора...
Русская философия, по мнению Бердяева, начинается с философских писем
Чаадаева. Первый известный на Западе представитель русской философии
Вл. Соловьев. Религиозный философ Лев Шестов был близок к
экзистенциализму. Наиболее почитаемый на Западе из русских философов -
Николай Бердяев.
Спасибо за чтение!
......................................
Copyright:
Классик немецкой философии и эстетики, великий поэт и мыслитель Гёте был очень сложной и диалектически противоречивой личностью, взгляды которого невозможно уложить в прокрустово ложе какой-либо жесткой теоретической концепции (1). Однако на протяжении долгой творческой жизни в мировоззрении мыслителя отчетливо дают о себе знать некоторые ведущие тенденции. Во многом эти тенденции связаны с тем, что Гёте до конца своих дней был великим сыном века Просвещения - и в ранний период, когда он был вместе с Гердером одним из лидеров “Бури и натиска”, и в более поздний период “веймарского классицизма” (2).
Одна из этих ведущих тенденций - глубокое и разностороннее понимание роли и значения коммуникации (общения) для жизни общества, развития науки, искусства и личности.
В отличие от природы, говорит Гёте, которая “творит словно бы ради себя самой”, человек “творит как человек и ради человека”. “Все, что мы мыслим и творим, поскольку мы этому приписываем некое всеобщее значение, принадлежит миру, и мир, в свою очередь, нередко содействует созреванию того, что ему потом может пригодиться из трудов отдельной личности”. Беседы, переписка, печать, короче “обмен мнений” - это прекрасное “пособие для собственного и чужого развития”, для “выгод” светской, равно как и деловой, жизни, но главным образом для науки и искусства. Взаимоотношения с публикой являются, “поскольку речь идет об искусстве и науке, столь же благоприятными и даже необходимыми”.
Искусство (3) “существует благодаря человеку и для человека”, вот почему и в юные годы и в пору зрелости писатель не может обойтись без общения с публикой, “им владеет неодолимая потребность высказаться”. Поэтому все, “что художник приносит человеку, должно быть доступно”, “должно возбуждать и привлекать, потребляться и удовлетворять, должно питать наш разум, образовывать его и возвышать” (4).
Важную роль отводит Гёте искусству как средству общения между народами, нациями. “Нужно узнать особенности каждой нации, чтобы примириться с ними, вернее, чтобы именно на этой почве с ними общаться...”. Отличительные свойства нации, в том числе ее искусство, “подобны ее языку и монетам, они облегчают общение, более того, они только и делают его возможным”. “Все, что в литературе отдельной нации может повлиять и напомнить об этом, должно быть усвоено всеми”. На “ярмарке”, где все народы предлагают свои товары, искусство, как и язык, играет роль толмача, обогащая при этом себя; оно является посредником “всеобщего душевного торга”, способствующим взаимному обмену. “Это в свою очередь весьма будет действенно благоприятствовать все более расширяющейся промышленности и торговле; потому что, когда лучше знают взгляды друг друга - и тем более, если взгляды совпадают, - из этого быстрее возникает надежное доверие. А в иных случаях, когда мы в обычной жизни вынуждены иметь дело с лицами совершенно инакомыслящими, мы, с одной стороны, становимся осторожнее, но зато, с другой стороны, приучаемся быть терпимее и уступчивее” (5).
Нужно ли пояснять, как современно звучат в наши дни эти слова и идеи Гёте, проникнутые заботой о мире и взаимопонимании.
Гёте понимал, насколько значительна роль техники в создании оптимальных условий общения. Как и Гердеру, ему было ясно великое значение книгопечатания, а также все “ возрастающей скорости средств сообщения и связи”. С этим он связывал в перспективе интернационализацию литературы, появление “мировой литературы”. При этом Гёте высказывал идеи, которые, с одной стороны, удивительно прозорливо предвосхищали ряд особенностей этой будущей “мировой литературы”, обусловленные появлением средств массовой коммуникации, с другой стороны, диалектический подход позволил ему нарисовать гораздо более верную картину того, что появится на 150 лет позже и что получило одностороннюю интерпретацию у различных современных теоретиков “массовой культуры”.
Процесс образования “мировой литературы”, согласно Гёте, - процесс сложный и противоречивый, от которого не следует ожидать “ничего большего и ничего иного сверх того”, что он может осуществить и осуществит.
Гёте полагает, что в этой “мировой литературе” будет три “слоя”: “вершины”, “среднее” и “низшее”. К “низшему” следует отнести то, что сразу же придется по плечу “массе”, доставит удовольствие и окажется привлекательным. Все, что нравится массам, будет беспредельно распространяться и, как мы видим уже сейчас, будет находить сбыт во всех краях и местностях”. Противоборствовать широкому потоку злободневности, считает Гете, было бы тщетно (6). В этом “потоке злободневности”, распространяемом техникой, особую неприязнь у Гете вызывает “пошлость”. “Техника в соединении с пошлостью - это самый страшный враг искусства” (7).
“Среднее” - это то, “к чему желательно приучать массу, чтобы она постепенно стала его воспринимать”.
И, наконец, “вершины”, которые, вероятно, “превосходили бы возможности восприятия массы”. “Масса должна приучиться уважать и чтить то недостижимое, что она увидит перед собой; тогда хотя бы некоторые личности будут увлечены и поднимутся на более высокие ступени культуры”. “Серьезным и внутренне значительным творениям” не удается сразу нравиться массам и “беспредельно распространяться”, однако им необходимо стойко удерживать свои позиции” (8).
Итак, Гете - практик, государственный деятель, политик - считает, что в процессе общения, в частности посредством языка и искусства, люди добиваются взаимопонимания, достаточного для того, чтобы лучше “узнать” друг друга, “доверять” и пр.
Иной подход к проблеме взаимопонимания в процессе коммуникации наблюдаем мы у Гете-гносеолога.
Мысля диалектически, Гете видит относительный характер взаимопонимания в процессе общения, разные степени его “полноты” и пр. “Всякий думает, что он способен сообщить другим то, чем обладает сам”, но в действительности я давно, пишет Гете, “уже ясно усмотрел, что ни один человек не понимает другого вполне”. В частности, ни один из воспринимающих художественное произведение не находил в нем, утверждает Гете, “то, что художник туда вложил” (9). Причины могут быть разные:”никто под одними и теми же словами не разумеет того, что другие”, “разговор или чтение книги у различных лиц вызывает различный ход мыслей...” (10).
Но есть, по мысли Гете, более глубокие, гносеологические причины, когда речь заходит о возможности коммуникации истинного знания о сущности вещей. В этом вопросе, отмечает В.Ф.Асмус, Гете “подходит чрезвычайно близко к гносеологическим учениям немецкого диалектического идеализма” (11).
Подобно Шеллингу, Гете противопоставляет рассудок и разум. Рассудок - расчленяет живое целое на механические элементы и не может быть адекватным орудием познания. Его цели - утилитарные, извлечения практической пользы. Напротив, разум направлен на постижение ценности явления, его синтетического единства, только он вводит в понимание самой сущности вещей.
В основе языка как деятельности, согласно Гете, лежит как рассудочная, так и разумная способность человека. “Но у того, кто пользуется им, не говоря уже о возможностях злоупотребления в целях “хитроумно спутывающей диалектики” и “спутанно затемняющей мистики”, он не предполагает непременно “чистого рассудка” или “развитого разума”. Это, во-первых. Во-вторых, язык как инструмент, орудие, располагающий определенным запасом слов, возник в связи с насущными человеческими потребностями, человеческими занятиями и “наиболее обычными” человеческими ощущениями и взглядами. Иными словами, в основе языка, как он сложился исторически, лежит “обыденное созерцание”, правильный взгляд на земные вещи, общий человеческий рассудок. Поэтому, когда высокоодаренный человек проникает в глубь “таинственной сущности и деятельности природы”, то унаследованный им язык оказывается недостаточным для того, чтобы выразить такие прозрения, далекие от обыденных человеческих дел. Вынужденный прибегать к “человеческим выражениям при передаче своего познания, он поневоле принижает свой предмет или даже совершенно искажает и уродует его” (12).
К несовершенствам языка Гете относит и то, что он является орудием опосредованного познания. Не без влияния Гамана и Гердера Гете отдает предпочтение непосредственному познанию сущности вещей. Язык же “никогда не выражает предметы непосредственно”. Если бы быть свободным от односторонности и схватывать “живой смысл в живом выражении”, то удалось бы “сообщать немало хорошего”. Но очень трудно “не ставить знак на место вещи, все время иметь перед собой живую сущность и не убивать ее словами”. Слово является “знаком” и “никоим образом не выражает полностью природу”, оно “должно рассматриваться только как пособие для нашего удобства”.
Язык знаков необходим и удобен, но лишь умеренное, непритязательное употребление его может принести пользу. Всегда имеется опасность, что “иероглифический способ выражения” начинает подменять подлинное явление, становится на место природы и мешает настоящему познанию вместо того, чтобы помогать ему. Особенно это относится к тем случаям, когда речь идет о таких сущностях, которые можно скорее назвать “действительностями”, чем вещами и которые находятся постоянно в движении. “Их нельзя удержать, и тем не менее о них надо говорить” (13).
Весьма актуальны, в том числе и для современной философской и эстетической науки, предостережения Гете против неумеренного и неосторожного “заимствования” терминологии из других областей знания, когда “общее через частное, элементарное через производное скорее закрывается и затемняется, вместо того, чтобы выявляться и познаваться”. Желательнее всего, считает Гете, было бы, однако, “чтобы язык, которым хотят обозначить частности определенного круга явлений, брали бы из этого же круга, простейшее явление употребляли бы как и сильную формулу и отсюда бы выводили и развивали более сложные”.
Гете считает, например, неудачным, “механическим”, “унизительным” термин “composition”, который французы ввели в искусствоведение “с тех пор, как они начали думать и писать об искусстве; ведь говорится: живописец компонирует свои картины; музыкант даже раз навсегда называется композитором, и все же, если оба хотят заслужить настоящее название художника, то они не составляют из частей свои произведения, но развивают какой-нибудь живущий внутри них образ, более высокое созвучие в согласии с требованиями правды и искусства” (14).
У Гете имеются высказывания, в которых он вообще отрицает возможность выразить сущность произведения искусства, красоту словами. Так, в статье “О Лаокооне” (1798) он пишет: “Подлинное произведение искусства подобно произведению природы всегда остается для нашего разума чем-то бесконечным. Мы на него смотрим, мы его воспринимаем, оно на нас воздействует, но не может быть познано; тем более не могут быть выражены словами его сущность, его достоинства” (15).
В статье “Об истолковании произведений искусства” (1822): “... раз художник уже высказал несказуемое, как же можно выразить это на другом языке, да к тому же на языке слов?” (16). Сходная мысль высказана в разговорах с Эккерманом: “Я смеюсь над теми эстетиками, которые мучаются, стараясь выразить в абстрактном слове и воплотить в понятия то невыразимое, что мы обозначаем словом “красота” (17).
В то же время в других сочинениях Гете мы встречаем более “умеренную” точку зрения. Так, он пишет, что хотя “мы вправе требовать, чтобы любое художественное произведение говорило само за себя, все же это относится только к избранным, самым великим творениям. Все же другие, которые заставляют желать еще многого и лучшего, очень нуждаются в помощи, даже в словесной”. Хотя говорить об искусстве - значит “посредничать посреднику”, но, считает Гете, “все же за таким занятием мы обретаем немало ценного”. Искусство - перелагатель “неизреченного”, поэтому может показаться глупостью попытка вновь перелагать его словами, все же “когда мы стараемся это делать, разум наш стяжает столько прибыли, что это с лихвой восполняет затраченное состояние” (18). Прямо противоположное суждение высказывает Гете и о прекрасном. “О прекрасном можно иметь понятие, и это понятие может быть выражено” (19).
В гетевской “Критике” языка несомненно содержится (не без влияния кантовской философии) известная доля агностицизма. Однако, подчеркивает В.Ф.Асмус, “простое отождествление воззрений Гете с агностицизмом кантовского (20) или юмовского типа было бы так же неверно, как и полное игнорирование известной тенденции к агностицизму, несомненно у Гете прорывающейся” (21). Неосторожные “философски некорректные высказывания” (Асмус) Гете о языке, знаках и “формулах” имели своей целью скорее оградить исследование явлений от притязаний метафизического, механистического способа мышления, огрубляющего сложную диалектическую природу познаваемых объектов (22).
Есть основания утверждать, что именно в искусстве видел Гете такой способ выражения, обозначения и коммуникации, который сможет преодолеть недостатки языка обыденного и научного познания. Называя искусство “истинным посредником” (23), он пишет: “Я почти и сам начинаю верить, что, быть может, одной поэзии удалось бы выразить такие тайны, которые в прозе обыкновенно кажутся абсурдом, так как их можно выразить только в противоречиях, неприемлемых для человеческого рассудка”. И еще: “Ввиду этого мы обязательно должны представлять себе науку как искусство, если мы ждем от нее какой-либо цельности” (24).
Эти преимущества искусства Гете связывает с символическим способом познания, характерным для искусства.
Проблема символа (символического способа познания, выражения и коммуникации) Гете была и остается поныне предметом многочисленных исследований и различных тенденций в интерпретации мировоззрения великого мыслителя (25).
Как отмечают исследователи (И.Кон), слово “символ” появляется впервые у Гете в VII главе “Ученических годов Вильгельма Мейстера” (1796). Во время работы над этой книгой в письме к Мейеру (20 июня 1796 г.) Гете обратил внимание на этот термин у Канта - §59 “Критики способностей суждения” (26): кантовское понимание символа, в частности применительно к эстетике, оказало большое влияние на Шиллера, с которым Гете, начиная с 1794 г. ведет интенсивное обсуждение (в беседах и переписке) эстетических проблем, в том числе и проблемы символа. Несомненно, что Шиллер способствовал знакомству Гете с великим немецким философом и с его пониманием символа. Влияние Канта и Шиллера, в особенности первого, на Гете было бесспорно, однако нельзя проходить мимо существенных различий в понимании символа у этих мыслителей (27).
Какие же общие признаки, по Гете, характеризуют понятие “символ”? Символы всегда указывают на “другое”, выступая как “представители многих других” предметов и явлений. Причем символ может иметь дело только “со значительным...”. “Собственно символические предметы”, например, являются тем, “чем является для поэта счастливый сюжет” (28), “театрально лишь то, в чем нам одновременно внушится символ: значительное и высшее действие, указывающее на другое, еще более значительное” (29).
Как и у Канта, символы, согласно Гете, всегда несут в себе созерцание предмета, они образны. “Символика превращает явление в идею, идею в образ...”. Элементы символики, не говоря пока об искусстве, имеют место и в языке, поскольку он “образен”, в “речи, изначально тропической”, как поэзия гения, как поговорочная мудрость человеческого рассудка”. Прибегает к символике и наука, в особенности математика, когда она с помощью “чисел и формул” создает “уподобления” познаваемым сущностям, то есть какие-то образные структуры (30).
В символе всегда имеется известное сходство с символизируемыми предметами. Это сходство может быть простым “уподоблением” в случае “формул”. Когда же символ выступает в качестве “выдающегося случая”, “типа” (или “первичного феномена”)18, он “тождествен” символизируемым явлениям. Но в отличие от простого изображения символ не только воспроизводит “индивидуальность” предмета, он также несет в себе “образ” как “идеальность”, как определенное “обобщение”. Так, например, “символические” сюжеты глубоко значительны вследствие “идеала”, который всегда ведет с собою “обобщение” (31). Гетевские образы Фауста и Прометея могут служить ярким “практическим” воплощением гетевского теоретического понимания обобщающей силы символического образа (32).
Уже приводилось высказывание Гете о том, что символ “превращает явление в идею, идею в образ...”. Таким образом, “идея” - необходимый элемент в структуре символа. Продолжая это высказывание, Гете пишет: “идея всегда остается в образе бесконечно действенной и недостижимой. Даже выраженная на всех языках она осталась бы все-таки невыразимой” (33).
На это высказывание обычно ссылаются те исследователи, которые стремятся сблизить Гете и Канта, отмечая сходство этого высказывания с кантовским определением “эстетической идеи” (34). Действительно, Гете не прошел мимо той глубокой идеи, которая содержалась в кантовском учении о символе. Что значит, что идея остается в образе “действенной”? В письме к Шиллеру (от 18 августа 1797 г.) он пояснял, что символы, возбуждая представления о сходных вещах, “требуют известной последовательности”, “известного единства и всеобщности”, то есть осуществляют некоторую регулирующую функцию в качестве некоторого закона (35).
Поскольку символ заключает в себе полноту вещей, является символом “многих тысяч других случаев”, “указывает на все остальное и охватывает все случаи”, которые возможны (37), его активная сила, порождающая множество представлений, “бесконечна”. А раз бесконечна, значит всегда остается что-то “недостижимое”, до конца “невыразимое”, какая-то “загадочность и тайна”.
Произведение искусства, художественный образ, поскольку они символичны, “тем лучше”, чем они “несоизмеримее и недоступнее для рассудка” и “навсегда останутся загадкой для рассудка” (36).
В главе о Канте нам уже приходилось говорить, что признание бесконечного и иррационального (трансцендентального) в символе не означает само по себе ни агностицизма, ни иррационализма (38).
Как уже отмечалось, концепция символа Канта страдала субъективизмом. Это понимал и Гете. Когда он характеризует кантовскую философию как слишком “высоко поднимающую субъекта при кажущемся ограничении ее” (39), эта характеристика относится и к кантовскому пониманию символа.
Стремясь к диалектическому синтезу объекта и субъекта, Гете первенство отдает объекту. Шиллер в письме к Гете от 23 августа 1794 г. пишет о том, что Гете “навел” его на след “объекта, материального остова умозрительных идей, что его наблюдательный взор покоится на вещах и не боится опасности “отвлеченного умствования” и произвола воображения”, что он “объединяет явления согласно объективным законам” (40). В письме от 7 сентября 1797 г. по поводу размышлений Гете о “символических предметах” Шиллер, который стоит гораздо ближе к Канту, чем Гете, возражает ему: “Вы говорите так, как если бы здесь особую важность имел предмет; с этим я не могу согласиться” (41). Подчеркивая важность объективного, предметного содержания в символе, Гете выступает против субъективной, мнимой символики. Он подвергает критике такого рода “символы” в письме к И.Мейеру от 20 мая 1796 г. В работе “Коллекционер и его близкие” (1798-1799) он критикует художников (называя их “эскизниками”), подкупающих “неискушенного зрителя” мыслью, которая “лишь наполовину ясная, но мнимо символически изображенная”, вследствие чего зритель “начинает видеть “то, чего там на самом деле и нет”. Символ, как средство, которое должно осуществить коммуникацию, “контакт” между “духом” художника и “духом” зрителя, “превращается в ничто” (42).
Как точно замечает Б.Сфрёнсен, хотя содержание символа у Гете заключено в объекте, но раскрывается оно через субъекта (44). Именно это имел в виду Гете, когда в письме к Римеру от 24 июля 1809 г. заметил, что “все символы, даже математические, все-таки антропоморфичны”, то есть предполагают деятельность субъекта, будь это деятельность “ума” в одном случае или “души” - в другом (45). Это вполне отвечало его общей гносеологической позиции, которая распространялась им и на искусство: “Мы ничего не знаем о мире вне его отношения к человеку; мы не хотим такого искусства, которое не было бы сколком с этих отношений “ (46). Создавая символические образы, искусство хотя и обращается преимущественно “к воссозданию природы и самой действительности”, начинается оно тем не менее, подчеркивает Гете, там, где человек “приобретает склонность” придавать особое значение тому, чем он сам обладает и что его окружает” (47). То, что “несведущий человек в произведении искусства принимает за природу, есть не природа (с внешней стороны), а человек (природа изнутри)”. “Искусство существует благодаря человеку и для человека”. Поэтому законы “воздействия всех искусств, как словесных, так и пластичных”, можно обнаружить, лишь исследуя “человеческую душу” (48).
Когда Гете говорит, что “символика превращает явления в идею”, под идеей он понимает не идеи субъекта, а идеи, лежащие в основе вещей. “Все, что мы узнаем и о чем мы можем говорить, лишь проявления идей” (49). Исследователи в этой связи говорят о “неоплатонизме” Гете, влиянии Шёфтсбери и т.д. (50).
Вот что пишет А.В.Гулыга по поводу “легенды” о “неоплатонизме” Гете: “Реминисценции неоплатонизма можно обнаружить у многих пантеистически и даже материалистически настроенных философов вплоть до XVIII века; теория эманации постепенно сменилась противоположным ей учением об эволюции, а плотиновское “всеединое” все еще продолжало быть символом веры. Этой формулой пользовались и Лессинг, и Гердер, и Гете. “Неоплатонизм” Гете опосредован многовековой историей пантеизма, в ходе которой постепенно угасала идея божества и ее место занимал культ природы” (51).
Преимущество символической формы познания Гете видел в том, что здесь преодолевается односторонний рационализм рассудочного познания, о котором мы говорили раньше в связи с языком. Что меняется, когда вместо вещи, предмета ставится не знак, а символ? Устраняется ли тем самым опосредованный характер познания сущности вещей, то есть “идей” (по Гете)? Является ли символическое познание - непосредственным?
Во “Введении к Опыту интероологии” Гете пишет: “истинное, тождественное божественному, непосредственно никогда не познаваемо: мы зрим это истинное лишь в отблеске, в примере и в символе, в отдельных и сродных явлениях” (52). Таким образом, символическое познание не является непосредственным постижением сущности вещей, но опосредованность здесь иная, чем в знаковом, языковом познании. Если в последнем таким посредником были понятия, логическое мышление, то в символическом - образ, “чистое созерцание” (53).
В отличие от Канта и Гердера Гете проводит ясное различие между символом и аллегорией (54). “Аллегория превращает явление в понятие, понятие - в картину, но так, что в картине понятие все еще может быть ограничено и полностью установлено и высказано в ней” (55). Символ же превращает идею в образ так, что эта идея (или понятие) воспринимается в единстве и неразрывной связи с образом. В этом смысле “аллегорическое отличается от символического тем, что одно выражается посредственно, другое непосредственно”. Аллегорический образ может блистать умом, остроумием, но он разрушает интерес к изображению и возвращает разум к самому себе, отнимая у глаз то, что действительно изображено (56). Напротив, символ у Гете, пишет Сфрёнсен, нагляден в том смысле, что наглядно представлена сама идея. В созерцании символа раскрывается сущность предмета, или идея. “Значение” символа не может быть отделено от символизируемого, символ и есть воплощенное значение (57). И все же нельзя согласиться с утверждением, что символ у Гете не связывает две реальности: материальную и духовную, поскольку он - неразрывное единство этих сторон, единство универсального и особенного, абсолютного и феноменального (58). Как раз наоборот, символ и есть воплощение этой связи. В письме Шиллеру от 23 декабря 1797 г., характеризуя “Германа и Доротею”, Гете писал, что в этом произведении “символически... намечены легкие следы ощущения связи между видимым и невидимым миром” (59).
Слитность идеи (понятия) с образом в символе делает эту идею, или понятие конкретными (60), с чем и связана невозможность выразить ее в какой-либо одной абстрактной идее, что характерно как раз для аллегории. Гете решительно отвергал попытку рассматривать идею художественного произведения “как элемент, который может быть внедрен в произведение как таковой, не становясь при этом субстанцией, невидимо разлитой по всей конкретной поверхности образа и неотделимой от его конкретного содержания” (61).
Конкретность символа, то есть нерасчлененное единство образного и идейного содержания обосновывается Гете соображениями и “чисто” коммуникативного характера, а свою задачу как поэта он формулирует следующим образом: создать произведение искусства так, “чтобы и другие, читая и слушая изображенное мною, получали те же самые впечатления”. Каковы же эти впечатления? “Не моя манера, - разъяснял он по поводу Фауста, - стремиться воплощать в поэзии что-нибудь абстрактное. Я воспринимаю впечатления - впечатления чувственные, полные жизни, милые, пестрые, бесконечно разнообразные, которые мне давало возбужденное воображение; и мне как поэту не оставалось ничего больше, как только художественно округлять и оформлять такие созерцания и впечатления и выражать их в живом слове...”. На вопрос о том, какую идею он хотел сообщить читателям в “Фаусте”, Гете отвечал: “Как будто я сам это знаю и могу это выразить!.. В самом деле! Хорошая это была бы штука, если бы я попытался такую богатую, пеструю и в высшей степени разнообразную жизнь, которую я вложил в моего Фауста, нанизать на тощий шнурочек одной-единственной для всего произведения идеи”. В этом смысле “Фауст” есть “нечто совершенно несоизмеримое”, и “тщетны все попытки сделать его доступным нашему рассудку” (62).
Б.Сфрёнсен говорит о трех видах символа в учении Гете о символе - “классического” и “послеклассического” периода (63): гештальт-символ, эмоциональный символ, репрезентативный символ. Эта классификация заслуживает внимания.
В период веймарского классицизма у Гете была идея искусства как замкнутого в себе художественного мира. Рациональное в этой идее было то, что произведение искусства рассматривалось как относительно автономная система, подчиненная своим специфическим законам. “Если опера хороша, - писал Гете в статье “О правде и правдоподобии в искусстве” (1797), - то она, конечно, является как бы маленьким мирком для себя, в котором все совершается по известным законам и который требует, чтобы о нем судили по его собственным законам, ощущали бы его соответственно с его собственными качествами” (64). С этой позиции произведение искусства рассматривается как в себе покоящийся символ, “гештальт-символ”. “Большим достоинством произведения искусства, - считает Гете в этот период, - является его самоудовлетворенность и замкнутость” (65). Гетевский способ выражения давал основание рассматривать его учение о символе как об имманентной структуре, не имеющей выхода вовне (66), и было в дальнейшем использовано “формалистами” (67). В действительности же дело было не так. Например, характеризуя символические сюжеты (в этот же период), Гете пишет, что они “кажутся самодовлеющими - и все же они глубоко значительны”, так как связаны с идеалом, обобщением, о чем уже говорилось (68).
“Эмоциональные символы” у Гете - это в сущности все символы в искусстве, рассматриваемые с субъективной стороны, с точки зрения их воздействия на чувства человека. Уже говорилось, что законы воздействия всех искусств Гете ищет в человеческой душе. Развивая мысли “бурных гениев”, он пишет: “Но человек ведь не только мыслящее, но одновременно и чувствующее существо” (69). Он - нечто целостное, единство различных сил, тесно связанных между собой. К этому-то целому и должно взывать произведение искусства, оно должно соответствовать этому разнообразному единству, этому слитному разнообразию” (70). Именно художественный символ - образный, наглядный, конкретный, неисчерпаемый в своем идейном наполнении лучше всего отвечает, согласно Гете, этому требованию.
В послеклассический период на первое место выдвигается понятие “репрезентативного символа”, что было связано с естественнонаучными методами, с такими категориями, как “тип”, опыт высшего вида - “первофеномен” (71). Репрезентативный символ - это такой типичный случай, такое частное, особенное, которое, когда оно вполне обнаруживает себя, указывает и на все остальные, ведет ко всеобщему. Причем этот путь отличается от пути к обобщению в аллегории. “Далеко не одно и то же, подыскивает ли поэт для выражения всеобщего особенное или же в особенном видит всеобщее. Первый путь приводит к аллегориям, в которых особенное имеет значение только примера, только образца всеобщего, последний же и составляет подлинную природу поэзии; поэзия называет особенное, не думая о всеобщем и на него не указуя. Но кто живо воспримет изображенное его особенное, приобретет вместе с ним и всеобщее, вовсе того не сознавая или осознав это только позднее” (72). “Настоящая символика там, где частное представляет всеобщее... как живое мгновенное откровение непознаваемого” (73).
Учение Гете о символе как “типе” и “первофеномене” оказалось в эстетике исключительно плодотворным: “Здесь берет свое начало учение о типическом в жизни и в искусстве” (74).
Подлинное художественное творчество (в отличие от “простого подражания” и “манеры”) Гете называл “стилем”. Поскольку “стиль” Гете связывает с созданием типических образов, передающих всеобщее через особенное, постольку это понятие, как верно подмечает Х.Келлер, тесно связано с “символом” (75).
Когда художник от “простого подражания природе” поднимается до “манеры”, “он обретает свой собственный лад, создает свой собственный язык, чтобы по-своему передать то, что восприняла его душа. Когда же искусство обретает черты стиля, “который покоится на глубочайших твердынях познания, на самом существе вещей”, постольку его дано распознавать “в зримых и осязаемых образах”, имеющих символический характер, оно, искусство, окончательно “создает для себя единый язык” (76). Удалясь от прозы, этот поэтический язык “поднимается в высшие сферы и там обретает свои собственные законы” (77).
Этот “наивысший язык, который, разумеется, надо понимать”, требует возвыситься до художника, “собрать себя”, “жить одной жизнью с произведением искусства, снова и снова созерцать его и тем самым вступить в более возвышенное существование” (78).
Способность владеть и пользоваться таким “языком” характеризует, как считает Гете, гения (79). Это способность прежде всего - постижения существа вещей. Но поскольку речь идет о коммуникации, о выражении этой познанной сущности “наружу”, постольку гений обусловлен материалом и временем, причем оба неизбежно связывают его (80). Например, поэту нужны такие “внешние средства для создания достойного образа из данного материала”, как слова и ритмы, причем речь идет не только о “точности фраз”, но и о “благозвучии периодов”, “обаянии”, “гармонии” (81). В то же время у Гете имеются и другие высказывания, в которых нельзя не видеть отражение концепции Шёфтсбери о “внутренней форме”. “Подлинный поэтический гений... пусть на его пути возникают препятствия в виде несовершенства языка, слабой внешней техники и тому подобного, он владеет высшей внутренней формой, и ей в конце концов подчиняется все...” (82).
Итак, в аспекте интересующей нас проблемы “искусство и коммуникация” Гете занимает особое место в истории эстетической мысли. Ему принадлежит, на наш взгляд, самое глубокое истолкование проблемы художественного символа в эстетике. Оно неразрывно связано с великим искусством самого Гете, пронизано диалектикой и “стихийным материализмом” (В.Ф.Асмус). Учение Гете о художественном символе - то ценное в немецкой классической эстетике, что должно быть унаследовано (с соответствующими коррективами) современной эстетикой (83).
“Проблема знака” в узком смысле почти не исследовалась Гете. Что же касается вопросов “языка”, он здесь в основном следует взглядам немецких просветителей, главным образом Гердера.
Взгляды Гете по интересующим нас вопросам оказали громадное влияние на последующее развитие философско-эстетической мысли.
ГЁТЕ (Goethe) Иоганн Вольфганг фон (28 августа 1749, Франкфурт на Майне – 22 марта 1832, Веймар) – немецкий поэт и естествоиспытатель. Что «философия Гёте» – тема, предваряемая целым рядом оговорок, доказывается не только отсутствием у Гёте философии в общепринятом смысле слова, но и его открытой враждебностью ко всему философскому. Академическая философия лишь следует собственным его заявлениям, когда она отказывается аттестовать его как одного из своих: «Для философии в собственном смысле у меня не было органа» (Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, hrsg. von R.Steiner. Dornach, 1982, Bd 2, S. 26), или: «Собственно говоря, я не нуждаюсь ни в какой философии» (Goethes Gespräche. Münch., 1998, Bd 3, 2. Teil, S. 158), или еще: «Она подчас вредила мне, мешая мне двигаться по присущему мне от природы пути» (Goethes Briefe. Münch., 1988, Bd 2, S. 423). Очевидно, однако, что эти признания допускают и более эластичное толкование, особенно в случае человека, который, по собственным словам, ничего не остерегался в своей жизни больше, чем пустых слов. Если философское мышление обязательно должно быть дискурсивным и обобщающим, то чем оно может быть менее всего, так это гётевским. Гёте, «человеку глаз». чужда сама потребность генерализировать конкретно зримое и подчинять его правилам дискурса. В этом смысле правы те, кто считает, что он никогда не идет к философии. Можно было бы, однако, поставить вопрос и иначе, именно: идет ли (пойдет ли) к нему философия? В конце концов важна не столько неприязнь Гёте к философии, сколько нужда философии в Гёте, и если историки философии обходят почтительным молчанием автора «Учения о цвете», то обойти себя молчанием едва ли позволит им автор «Наукоучения», уполномочивший себя однажды обратиться к Гёте от имени самой философии: «К Вам по праву обращается философия. Ваше чувство – пробный камень ее» (Fichtes Briefe. Lpz., 1986, S. 112).
Особенность, чтобы не сказать диковинность, мысли Гёте в том, что он в пору наивысшей зрелости и ощутимого конца философии философствует так, как если бы она и вовсе еще не начиналась. Понятно, что такая привилегия могла бы в глазах историков философии принадлежать философам, вроде Фалеса и Ферекида Сирского, но никак не современнику Канта. Другое дело, если взглянуть с точки зрения беспредпосылочности, или допредикативности, познания, с которой новейшую философию заставила считаться феноменология Гуссерля. Гётевское неприятие философии относится тогда не к философии как таковой, а лишь к ее дискурсивно измышленным предпосылкам. «Люди (можно читать: философы. – К. С. ) так задавлены бесконечными условиями явлений, что не в состоянии воспринимать единое первичное условие» (Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, Bd 5, S. 448). В свою очередь, предпосылки гётевского философствования, которое он никогда не мыслил себе раздельно с жизнью, производят на академически обученного философа впечатление некоего рода «святой простоты». Таково, напр., неоднократно повторяемое и возведенное до основополагающего принципа требование: «Видеть вещи, как они есть» (Goethe . Italienische Reise. Lpz., 1923, S. 141). Дело вовсе не в том, что этот принцип диаметрально противоречит, скажем, коренной установке кантовской философии. С ним можно было бы посчитаться, если бы он осуществлялся в рамках некой общей и гомогенной философской топики, как, напр., у Гуссерля, где даже в радикализме лозунга: «Назад к самим вещам!» дело шло больше о теоретически востребованном переосмыслении судеб западной философии, чем о «самих вещах». У Гёте он вообще ничему не противоречит и утверждает себя силой собственной самодостаточности. Гёте – наименее филологичный из людей – есть философ, который мыслит глазами, и значит: не в словах, а в вещах , тогда как большинство людей – и философов! – делают как раз обратное. (§ 754 «Учения о цвете». «И однако сколь трудно не ставить знак на место вещи, всегда иметь сущность живой перед собой и не убивать ее словом».)
Возможность гётевской философии (ее, говоря, по-кантовски, quid juris) коренится, т.о., не просто в мыслимости ее этоса, а в осуществимости последнего. Очевидно, при всей парадоксальности, что словесный пласт философии Гёте, или ее дискурс , представлен некой спонтанной цепью отклонений от правил философского поведения, как если бы он знакомился с философией не в работе над ее первоисточниками, а из сплошного негативного опыта конфронтаций своих созерцаний с ее понятиями. Характерен в этом отношении его разговор с философски образованным Шиллером, во время которого ему должно было открыться, что он «имеет идеи, сам Того не зная, и даже видит их глазами». Возникает неизбежная альтернатива: либо рассматривать «философию Гёте» в линии философской традиции (где она окажется, самое большее, эвристически небезынтересной), либо же предварить тему вопросом о специфике гётевского типа познания. В последнем случае решающим оказывается не теоретическое «что можно» и «чего нельзя», априорно обусловливающее всякую философскую рефлексию, а некий самодостаточный опыт, расширяющийся до природы и осознающий себя в идеале как человеческую индивидуальность самой природы, нисколько не смущаясь собственной (философски визированной) «субъективностью». Интересно рассмотреть этот опыт по аналогии с кантовским понятием опыта. Исходный тезис Гёте: «Все попытки решить проблему природы являются, по существу, лишь конфликтами мыслительной способности с созерцанием» (Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, Bd 2, S. 200), совпадает, если заменить «конфликты» «синтезами», с кантовским. Но уже со второго шага налицо расхождение. Кант отталкивается от теоретического представления о «нашем» устройстве, Гёте от непосредственной данности своего устройства. По Канту, «наш» рассудок устроен так, что созерцания без понятий слепы, а понятия без созерцаний пусты. Гёте осознает свое устройство совершенно иначе: «Мое мышление не отделяется от предметов, элементы предметов созерцания входят в него и внутреннейшим образом проникаются им, так что само мое созерцание является мышлением, а мышление созерцанием» (ibid., S. 31). С точки зрения «Критики чистого разума» подобное мышление есть не что иное, как метафизическое мечтательство; § 77 «Критики способности суждения» смягчает вердикт: созерцающее мышление теоретически не содержит в себе противоречия, т.е. можно мыслить его существующим. Аналогия со ста воображаемыми талерами, в которые обошлось Канту опровержение онтологического доказательства, напрашивается сама собой. Эккерман (11. 4. 1827) приводит слова Гёте: «Кант меня попросту не замечал».
Реальность, а не просто мыслимость созерцающего мышления у Гёте есть, т.о., вопрос не теории, а опыта, причем не понятия опыта, а опыта как делания. Там, где теоретически постулируется слепота созерцаний и пустота понятий, налицо вытеснение реального феномена теорией и, как следствие, «конфликты» обеих половинок познавательного целого. Теория, понятая так, негативна и представляет собой, по Гёте, результат «чрезмерной поспешности нетерпеливого рассудка, который охотно хотел бы избавиться от явлений и поэтому подсовывает на их место образы, понятия, часто даже одни слова» (ibid, Bd 5, S. 376). Настоящая теория тем временем не противостоит вещам, а осознает себя как их «сущность»: «Самое высокое было бы понять, что все фактическое есть уже теория: синева неба раскрывает нам основной закон хроматики. Не нужно только ничего искать за феноменами. Они сами составляют учение» (ibid.). Все злоключения философии проистекают от того, что опыт отрезается от самих вещей и подменяет вещи словами. «Вместо того чтобы становиться между природой и субъектом, наука пытается стать на место природы и постепенно делается столь же непонятной, как последняя» (Goethes Werke, Weimarer Ausgabe, Bd 36, 4. Abt., S. 162). Что участью философии на этом пути могло быть лишь ее самоупразднение, стало ясно в свете ее дальнейших судеб, сначала в позитивистических диагнозах философии как «болезни языка» (Ф.Маутнер, Л.Витгенштейн), а после уже и в полном ее растворении во всякого рода «играх» и «дискурсах».
В свете изложенного проясняется, наконец, отношение к Гёте немецкого идеализма. Судьбой этого идеализма было противостоять натиску материалистически истолкованной физики с чисто метафизических позиций. Понятно, что в споре с ним кантианство могло уже хотя бы оттого рассчитывать на успех, что исходным пунктом его был факт естествознания, а не воздушные замки неоплатонических спекуляций. Эвристически допустим вопрос: как сложились бы дальнейшие судьбы философии, вообще духовности, если бы немецкий идеализм, отталкиваясь от Канта, взял бы курс не на Плотина, а на факт естествознания, к тому же не ньютоновского, как это имеет место у Канта, а гётевского естествознания? Характерно, что основной упрек Гёте со стороны кантиански ориентированных критиков: он-де «переносит рассудочные абстракции на объект, приписывая последнему метаморфоз, который свершается, по сути, лишь в нашем понятии» (Sachs J. Geschichte der Botanik vom 16. Jahrhundert bis 1860. Münch., 1875, S. 169), буквально совпадает с упреком тех же критиков в адрес немецкой идеалистической философии. Г.Файхингер формулирует в этой связи «генеральное заблуждение» Гегеля, который «смешивает пути мышления с путями реально происходящего и превращает субъективные процессы мысли в объективные мировые процессы» (Vaihinger H. Die Philosophie des Als ob. В., 1911, S. 10). Разумеется, с точки зрения гегелевской метафизики эта критика не имела никакого смысла. Вопрос, однако, стоял о смысле самой метафизики. Немецкий идеализм – «высокие башни, около коих обыкновенно бывает много ветра» (Кант), – рушился как карточный домик при первом же таране критики познания. Ибо созерцающее мышление, смогшее в тысячелетиях произвести на свет такое количество глубокомысленной метафизики, не выдерживало и малейшей поверки со стороны естественно-научного мышления. Фихтевская апелляция к Гёте: «К Вам по праву обращается философия. Ваше чувство – пробный камень ее», видится в этом смысле как бы неким инстинктивным жестом выруливания между Сциллой кантианства и Харибдой (дезавуированной Кантом) метафизики. Факт то, что Гёте мыслит созерцательно, но факт и то, что мыслит он не как метафизик, а как естествоиспытатель. Метафизическое ens realissimum Шеллинга или Гегеля, облаченное в абстрактные понятия, действует в Гёте как чувственно-сверхчувственное восприятие. Иначе: одна и та же мыслительная потенция, созерцающая в одном случае историю сознания, а в другом случае наблюдающая череп барана, предстает один раз как феноменология духа, другой раз как позвоночная теория черепа. Созерцательную способность суждения можно было сколь угодно остроумными доводами опровергать теоретически или, в крайнем случае, на примере всякого рода парапознавательных практик (Кант versus Сведенборг). Опровергать ее там, где плодами ее оказывались не просто научные открытия, но и открытия целых наук (13 томов трудов по естествознанию насчитывает Большое Веймарское издание Гёте, т.н. Sophienausgabe), было бы просто нелепо.
С другой стороны, однако, именно подчеркнутый антифилософизм Гёте, в защитной среде которого его познание только и могло сохранить свою специфику, сыграл на руку академической философии. Единственным шансом обезвредить опасный прецедент было списать его в счет гениальной личности. Гёте-естествоиспытателю выпадала участь Гёте-поэта: здесь, как и там, все решалось вдохновением, спонтанностью, непредсказуемостью, точечными aper us, при которых не оставалось места никакой методологии, систематике и усвояемости. Воцарившийся со 2-й половины 19 в. научный материализм мог безнаказанно потешаться над лишенной теоретико-познавательного фундамента философией немецкого идеализма. Никто, кроме естествоиспытателя Гёте, пожелай он стать философом и перенеси он на философские проблемы ту созидательную конкретность, с какой он среди мира растений искал свое перворастение, не смог бы искупить гегелевский дух, тщетно силящийся (на последней странице «Феноменологии духа») вспомнить действительность своей Голгофы. Фатальным для этого духа (духа мира) было то, что он все еще взыскал контемпляций и визионерств в мире, уже полностью принадлежащем наблюдаемости. Школьным логикам не оставалось ничего иного, как ставить ему на вид недопустимость заключения от собственной мыслимости к собственной реальности.
Перспективой ближайшего будущего – в темпах нарастания теоретического и практического материализма – оказывалась судьба духовного, стоящего перед выбором: стать либо наукой, либо столоверчением. Решение этой задачи могло единственно зависеть от того, способен ли был философ-практик Гёте стать теоретиком собственного познания (см. Антропософия ).
К.А.Свасьян
Эстетические взгляды Гёте развивались от принятия идей «Бури и натиска» (О немецком зодчестве – Von deutscher Baukunst, 1772) через апологию античного искусства и культа эстетического воспитания к идее подражания природе и к трактовке искусства как произведения человеческого духа, в котором «рассеянные в природе моменты соединены и даже самые объективные из них приобретают высшее значение и достоинство» (Goethe I.W. Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke, 1797. – «Sämtliche Werke», Bd 33. Weimar, 1903, S. 90). В связи с этим Гёте выделяет три вида искусства: простое подражание природе, манеру и стиль. Стиль выражает всеобщее в особенном и принципиально отличается от аллегории, где особенное служит лишь примером всеобщего. Стиль – наиболее совершенное подражание природе, познание сущности вещей, представленное в видимых и ощущаемых образах. Его эстетика оказывается неотделимой от естественно-научных исследований, где постоянно подчеркивается роль целого и всеобщего, выражаемых в элементах и особенном. «Первофеномен», на постижение которого были направлены естественно-научные исследования Гёте, представляет собой явление, воплощающее в себе всеобщее. «Первофеномен» не остается неизменным, он выражен в метаморфозах изначального типа («Метаморфоз растений» – Die Methamorphose der Pflanzen, 1790). Гёте положил начало применению методов типологии в морфологии растений и животных, которые объединяют в себе методы анализа и синтеза, опыта и теории. В живой природе, согласно Гёте, нет ничего, что не находилось бы в связи со всем целым. Особенное, воплощающее в себе всеобщее и целое, он называет «гештальтом», который оказывается предметом морфологии и одновременно ключом ко всем природным знакам, в т.ч. основой эстетики. Ведь ядро природы заключено в человеческом сердце, а способ познания природных явлений – постижение единства и гармонии человека с природой, его души с феноменами природы.
Сочинения:
2. Sämtliche Werke, Bd 1–40. Stuttg. – B., 1902–1907;
3. Naturwissenschaftliche Schriften, hrsg. von R.Steiner, 5 Bde. Dornach, 1982;
4. Собр. соч., т. 1–13. M. – Л., 1932–1949;
5. Статьи и мысли об искусстве. М., 1936;
6. Гёте и Шиллер. Переписка, т. 1. М. – Л., 1937;
7. Избр. соч. по естествознанию. М., 1957.
Литература:
1. Белый А. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. М., 1917;
2. Лихтенштадт В.О. Гёте. П., 1920;
3. Гейзенберг В. Учения Гёте и Ньютона о цвете и современная физика. – В кн.: Философские проблемы атомной физики. М., 1953;
4. Вильмонт Н. Гёте. М., 1959;
5. Chamberlain H.St. Goethe. Münch., 1912;
6. Simmel G. Goethe. Lpz., 1923;
7. Valery P. Discours en lʼhonneur de Goethe, Oeuvres, v. 1. P., 1957, p. 531–553;
8. Steiner R. Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung. Stuttg., 1961;
9. Idem. Goethes Weltanschauung. В., 1921;
10. Cassirer Ε. Goethe und die mathematische Physik. – Idem. Idee und Gestalt. Darmstadt, 1971, S. 33–80.